Владимир Петрович Мамаев в воспоминаниях
Содержание:
Владимир Петрович Мамаев 1925-1987 rr.
Воспоминания сестры о детских годах Владимира Петровича
Из выступления академика Н.Н. Ворожцова
Научный фундамент заложен В.П. Мамаевым О.П. Шкурко
Наша многолетняя дружба Д.Г. Кнорре
Воспоминания о друге Р.А. Буянов
Несколько страниц о былом Г.А. Толстиков
Рядом с В.П. Мамаевым Г.В. Шишкин
В.П. Мамаев руководитель А.С. Лапик
Несколько слов о В.П. Мамаеве В.Г. Шубин
О В.П. Мамаеве Т.Н. Герасимова
Воспоминания о В.П. Мамаеве Л.К. Козачок
Жива светлая память В.А. Семиколенов
Поездка с Мамаевым в Стокгольм М.А. Грачев
Четверть века рядом с В.П. Мамаевым О.П. Шкурко
Учитель, Шеф и Человек М. А. Михалева, В. Ф. Седова
Из воспоминаний студентки первого набора НГУ Т.В. Лешина
Мой Владимир Петрович Мамаев А.М. Ким
Баллада о Владимире Петровиче Мамаеве В.П. Боровик
В.П. Мамаеву туристу и альпинисту В.П. Боровик
Памяти В.П. Мамаева (к 75-летию со дня рождения) В.П. Боровик
Владимир Петрович Мамаев - товарищ по туристским походам А.Г. Хмельницкий
Отклики зарубежных химиков (Проф. Д. Браун, Проф. Х. Ван дер Плас)
Краткая биографическая справка
Владимир Петрович Мамаев 1925-1987 гг.
Известный химик-органик, член-корреспондент АН СССР Владимир Петрович Мамаев родился 30 ноября 1925 года в Хабаровске в семье служащих. Его отец, Петр Васильевич, в то время преподавал в Дальневосточном университете, а мать, Лидия Дмитриевна, работала в РКИ Хабаровского края. В 1929 г. семья переехала сначала в Тулу, в 1931 г. в Москву. С 1933 по 1941 г. Владимир учился в московской школе No 268, где закончил 8 классов. Обучение в школе прервала война. На следующий год он сдал экзамены за среднюю школу после учебы на подготовительных курсах при Московском Химико- технологическом институте им. Д.И. Менделеева и был зачислен в этот институт. Его отец в самом начале войны вступил в народное ополчение и погиб в боях под Смоленском. Все семейные заботы по содержанию и воспитанию Владимира и его младшей сестры Ирины легли на плечи матери.
В 1947 году Владимир Петрович с отличием окончил институт по специальности «технология органических красителей и промежуточных продуктов». В том же году поступил в аспирантуру МХТИ, где под руководством проф. Н.Н. Ворожцова выполнил работу по синтезу ацилпроизводных пара-бензохинона, явившейся основой кандидатской диссертации, которая была им успешно защищена в 1951 году. По окончании аспирантуры был принят на должность ассистента на кафедру органической химии, возглавляемой академиком В.М. Родионовым.
В 1956 году В.П. Мамаев был избран доцентом, а в 1959 году по предложению чл.-корр. АН СССР Н.Н. Ворожцова перешел на работу в создаваемый Новосибирский институт органической химии Сибирского отделения АН СССР, где организовал и возглавил Лабораторию синтеза физиологически активных соединений (с1967 г. - Лаборатория гетероциклических соединений).
В НИОХ В.П. Мамаевым были развернуты исследования по химии различных гетероциклических соединений. Основные его работы посвящены разработке новых методов синтеза практически важного класса гетероциклов соединений пиримидинового ряда и их функциональных производных, а также конденсированных систем, содержащих кольцо пиримидина. Были изучены вопросы реакционной способности производных пиримидина, в т.ч. B реакциях нуклеофильного замещения в ряду фтор- И хлорпиримидинов. Под руководством Владимира Петровича выполнена большая серия работ, посвященных исследованию проводимости электронных эффектов заместителей в ряду азинов с использованием кинетических и спектральных методов, а также выяснению влияния природы гетероцикла на таутомерные превращения замещенных азинов. Получены соединения пиримидинового ряда, перспективные в качестве мономеров для термо- стойких полимеров, светочувствительных компонентов, жидких кристаллов, аналитических комплексонов и лекарственных препаратов.
В.П. Мамаев- автор около 300 научных работ, в том числе 7 обзоров и 44 патентов и авторских свидетельств, редактор 3 книг. Под его руководством выполнены и защищены 17 кандидатских и докторских диссертаций; в течение ряда лет он читал курс лекций по органической химии B Новосибирском государственном университете. B 1967 году Владимир Петрович защитил докторскую диссертацию на тему: "Исследование 2-замещенных пиримидинов", в 1969 году ему было присвоено ученое звание профессора, а в 1972 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР.
На протяжении многих лет В.П. Мамаев активно занимался научно-организационной и общественной деятельностью.
В течение 1965-1975 гг. был заместителем директора, а с 1975 по 1987 г. директором НИОХ СО АН СССР.
-
В.П. Мамаев являлся членом ряда Ученых советов, редколлегий научных журналов, членом Президиума СО АН СССР. Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов, медалями.
Владимир Петрович Мамаев скончался 1 февраля 1987 г. в Москве, похоронен в Новосибирске. По решению Президиума СО РАН на здании Новосибирского института органической химии установлена памятная доска с именем В.П. Мамаева.
Воспоминания сестры о детских годах Владимира Петровича
В 1934 г., когда мне было 3 года, а моему брату уже исполнилось 8 лет, наш отец, Петр Васильевич, уехал работать в Молдавию. Мы с мамой и братом Владимиром остались в Москве и приезжали к отцу только летом. Папа очень часто писал нам и присылал открытки. Помню открытку, где был изображен шахматный чемпион Ботвинник. Отец писал Владимиру, что скоро они встретятся и сыграют шахматную партию как Ботвинник и Керес, а пока, писал он, ты, сын, должен тренироваться.
1937 год. Папа вернулся в Москву и мне вспоминается, как он учил Владимира выпиливать лобзиком разные вещи. У нас долго хранилась коробочка с изображением кота, в которой Владимир держал конфеты, а сладкое он очень любил. Помню, родители к праздникам дарили нам по коробочке конфет и я очень долго их не ела, берегла. Тогда Владимир начинал меня «подначивать»: «Я свои конфеты давно съел, а ты жадничаешь». Я быстро съедала свои, тогда он доставал свою коробку и хвастал конфетами. Я - в рев, но все кончалось тем, что он угощал меня своими конфетами и мир восстанавливался.
Начиная с 1938 года родители отправляли нас на лето под Тулу в Ясную Поляну, туда же приезжали еще два двоюродных брата. Ребята помогали по хозяйству, а в свободное время любили ходить на станцию и сидеть на откосе, наблюдая за проходившими поездами. Марки паровозов они хорошо знали! Иногда вечером братья ходили в Дом отдыха на танцы, перед этим долго чистились и наряжались. Иной раз их пропускали на танцплощадку, а иногда нет, и тогда они смотрели через забор как там танцуют. Мы тогда много читали, любимым писателем у нас был Джек Лондон. Еще вспоминаю такой эпизод. Однажды братья решили нарвать яблок в служебном саду (чужие всегда вкуснее!) и поставили меня, как тогда говорили «на шухере». Я так волновалась, что каждую минуту кричала им. Мальчикам это надоело и они очень скоро вернулись без яблок и сказали, что я не гожусь «на дело». А яблок у нас и своих было много.
Во время войны, когда отец ушел в ополчение, а мама работала, Владимиру было поручено смотреть за мной и в случае воздушной тревоги прятаться в бомбоубежище, что мы не всегда делали. Жили в то время мы очень трудно. Отец погиб в самом начале войны и пенсию за него нам очень долго не платили. Владимир, чтобы помочь маме, пошел работать. Он развозил на тележке книги из коллектора в книжные магазины.
Школу он закончил экстерном. В Менделеевский институт пришел в шапке, которую сам сшил из куска старой маминой шубы, а костюм ему подарил отец его друга. Маме Владимир всегда помогал материально, а после ее смерти опекал и меня. Для меня он всегда был любимым братом и авторитетным советчиком.
Мамаева Ирина Петровна

Родители Владимира Петровича Мамаева Петр Васильевич и Лидия Дмитриевна

Первенцу Володе пошел второй год

Лидия Дмитриевна Мамаева с сыном
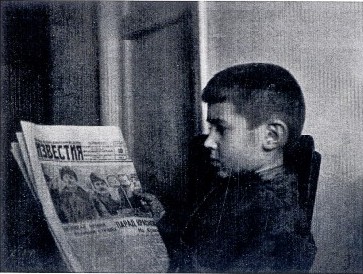
Володя Мамаев серьезный ученик
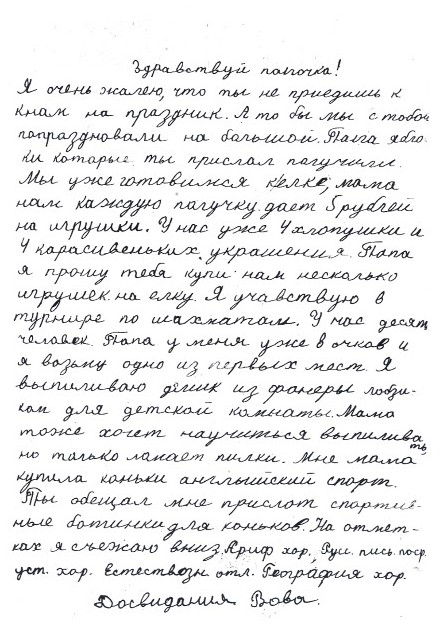
Письмо третьеклассника Володи своему отцу
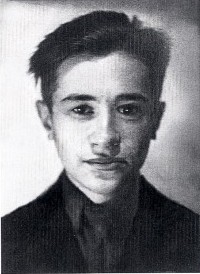
Владимир Мамаев завершил школьный курс и зачислен в МХТИ им. Д.И. Менделеева (1942 г.)
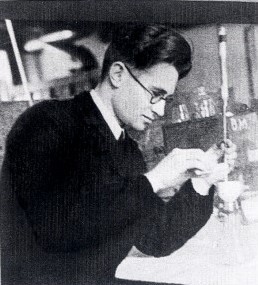
Дипломник Владимир Мамаев в химической лаборатории (1947 г.)

В студенческом турпоходе по Подмосковью. Жалко..., Но придется....
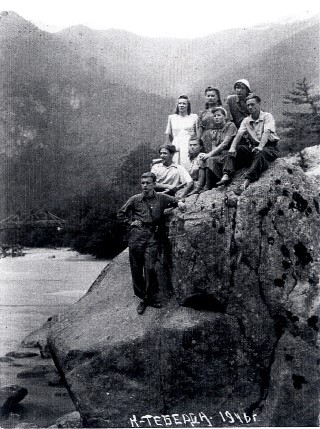
Первое приобщение к горному туризму. Лена Малинина и Володя Мамаев с группой студентов в горах Кавказа (1946 г.)

Аспирант В.Мамаев среди сотрудников Кафедры полупродуктов и красителей МХТИ. В первом ряду Б.И.Степанов, М.И.Литвиненко, зав. кафедрой Н.Н.Ворожцов, Л.Н.Николенко (1951 г.)

В.П. Мамаев ассистент на кафедре органической химии МХТИ (в первом ряду в центре зав. кафедрой академик В.М. Родионов)
Из выступления академика Н.Н. Ворожцова
на заседании диссертационного Ученого совета по
химическим наукам при защите В.П. Мамаевым докторской
диссертации:
"... С Владимиром Петровичем мы познакомились 20 лет тому назад. Он окончил кафедру (химии и технологии органических полупродуктов и красителей МХТИ), которой я заведовал, хотя дипломную работу делал у академика В.М. Родионова (на кафедре органической химии). В аспирантуру он поступил ко мне. Тема кандидатской диссертации была предложена не очень удачная и не привела к дальнейшему развитию работ в этом направлении. Работа, которая сейчас представляется В.П. Мамаевым B докторской диссертации, является полностью самостоятельным исследованием Владимира Петровича. Дело в том, что ему очень свойственна большая самостоятельность и оригинальность мысли. Это раз. И второе систематичность и настойчивость. Ему удалось открыть новую реакцию, которая успешно была использована им для разнообразного числа соединений. В любой работе надо уметь замечать и уметь отыскивать элементы новизны, уметь оценивать их значимость. В этом заключается ценность настоящего ученого ..."
В.П. Мамаев - ученый и организатор науки
Начиная свои воспоминания о В.П. Мамаеве, невольно обращаешься к началу 60-х годов прошлого века периоду становления института, формировались eгo основные научные направления и создавался коллектив научных сотрудников. В то время и почти до середины 70-х годов существовал единый научный семинар, на котором обсуждались различные научные материалы, направляемые в печать. Руководителем семинара был заместитель директора по научной работе, канд. хим. наук, затем докт. хим. наук и, наконец, чл-корр. АН СССР В.П. Мамаев. В работе семинара всегда участвовали будущие академики В.А. Коптюг и Д.Г. Кнорре, а также иногда и директор института академик Н.Н. Ворожцов. Владимир Петрович всегда тщательно готовился к этим семинарам, назначал в положенные сроки рецензентов, следил за правильным учетом принятых замечаний в окончательном варианте статей. Вся эта взыскательная и вместе с тем доброжелательная атмосфера научного семинара сильно способствовала творческому росту научных сотрудников, где на первый взгляд незаметная роль председателя как организатора научных обсуждений имела ведущее значение. Несмотря на то, что впоследствии единый научный семинар был разделен решением Ученого совета института на несколько семинаров, Владимир Петрович, уже будучи директором института, постоянно руководил до конца своих дней семинаром по синтетической органической химии, объединявшим большую часть научных лабораторий института.
Хотя собственные научные интересы В.П. Мамаева концентрировались в области синтеза азотистых гетероциклов и, прежде всего, пиримидина и других азинов, он значительное время уделял изучению И количественных аспектов реакционной способности этих соединений, понимая их необходимость для развития синтетических методов. Шутка, имевшая место B институте еще в 60-е годы, что вся органическая химия делится на две части - химию пиримидина и все остальное, в какой-то мере отражала действительность. Лаборатория гетероциклов и eё руководитель всегда находились на передовых рубежах развития химии азотистых гетероциклов. Владимир Петрович был заместителем председателя Научного совета АН СССР по тонкому органическому синтезу, организатором Всесоюзных конференций по химии азотистых гетероциклов, регулярно принимал участие в Международных конференциях по химии гетероциклических соединений, выступая с устными докладами, публиковал обзорные статьи по химии азинов в Международных изданиях, имел широкие контакты с ведущими гетероциклистами мира, например, с профессорами А. Катрицким (США), Ван дер Пласом (Нидерланды), С. Гроновицем (Швеция).
Несмотря на большие научные успехи, Владимира Петровича всегда характеризовали скромность B оценке достигнутых результатов и кажущаяся осторожность в научном поиске. Но эти черты, на мой взгляд, подчеркивали постоянное стремление Владимира Петровича к поиску нового, внутреннюю критику собственных научных результатов. Такая самокритичность весьма полезна исследователю, не дающая самоуспокоенности почиванию на достигнутых лаврах. Свидетельством этому может быть выступления Владимира Петровича на ежегодных отчетных сессиях Ученого совета института как руководителя лаборатории, которые отличались очень скромным и неброским поведением. Чувствовалось, что идет постоянный поиск и успокаиваться некогда.
Многие годы Владимир Петрович был "правой рукой" Н.Н. Ворожцова, а последние 12 лет своей жизни - директором Института. И в этой должности проявились другие важные черты его личности. Первая из них состояла в умении правильного подбора людей на те или иные должности. Владимир Петрович, решая кадровые вопросы, никогда не торопился, обсуждал всесторонне с членами Ученого совета, общественными организациями института и затем принимал решения. И надо сказать, что эти решения действовали безошибочно. Владимир Петрович весьма тщательно вел подготовку к заседаниям Ученого совета института, предварительно все "острые вопросы обсуждал со многими заинтересованными людьми с тем, чтобы последующее течение событий было сбалансированным и правильным интересах института.
И последняя черта, характерная для Владимира Петровича как руководителя института, это исключительная щепетильность в затратах на всякое благоустройство, я бы даже подчеркнул аскетичность в затратах на любые мелочи, например, канцелярские принадлежности.
Проявления всех этих черт я близко наблюдал, работая под руководством Владимира Петровича в дирекции института его заместителем по науке с 1979 по 1987 годы. Именно сочетание деловых и человеческих качеств позволяло Владимиру Петровичу быть лидером в научном коллективе и оставило во мне наилучшие воспоминания об этом добрейшем и скромном человеке.
В.М. Власов
Научный фундамент заложен В.П. Мамаевым
Владимир Петрович Мамаев является достойным учеником академиков В.М. Родионова и Н.Н. Ворожцова. После окончания Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева в 1947 г. был принят к Н.Н. Ворожцову в аспирантуру, которую завершил в 1951 году защитой кандидатской диссертации по синтезу ацилпроизводных парабензохинона. По окончании аспирантуры он был оставлен в должности ассистента на кафедре органической химии МХТИ, возглавляемой академиком В.М. Родионовым, где им была выполнена серия работ по синтезу В-аминокислот, в том числе аминокислот в ряду индола и тиофена. Уже тогда у него стал проявляться интерес к гетероциклам. И вскоре Владимир Петрович и его такой же молодой коллега Н.Н. Суворов публикуют в популярном химическом РИМИОС фундаментальный обзор по синтезу индолов реакцией Фишера. Одновременно В.П. Мамаев занимается преподаванием в институте и в 1956 году избирается доцентом.
В 1958 году будущий академик Николай Николаевич Ворожцов, организуя в Новосибирске институт органической химии, в числе первых пригласил Владимира Петровича в новый институт и поручил возглавить важное направление в органической исследования в области химии гетероциклических соединений. И прозорливость, и необъяснимое умение разбираться в людях не подвели Н.Н. Ворожцова. Он хорошо знал и ценил сильные стороны Владимира Петровича, еще будучи научным руководителем его диссертационной работы. И потом, уже в стенах нового института, молодой заведующий лабораторией всегда мог найти совет и поддержку у Николая Николаевича. Несмотря на разницу в возрасте и характерах они были единомышленниками и в науке, и в организационных вопросах. Вскоре В.П. Мамаев становится не только заведующим лабораторией и фактически правой рукой Н.Н. Ворожцова, но и назначается официально заместителем директора.
Готовя себе замену на посту директора Института, Николай Николаевич сделал однозначный выбор, остановившись кандидатуре В.П. Мамаева. В своем письме, отправленном из кисловодского санатория в марте 1968 года, он писал, что вопрос с возвращением его на работу не совсем ясен, просил Владимира Петровича занимать директорский кабинет, устраиваться в нем поудобнее: «...после возвращения на работу я, если и буду пользоваться им, то самое малое время, и он должен оставаться Вашей постоянной резиденцией...». Став руководителем Института, Владимир Петрович не утратил свои лучшие качества - чувствовать себя членом коллектива, не выпячиваться, быть одновременно и требовательным, и внимательным к сотрудникам, никогда не принимать поспешные решения, не посоветовавшись с коллегами.
Уже в первые два-три года В.П. Мамаеву удалось создать работящий коллектив молодых сотрудников И выполнить совместно с ними новаторские исследования по синтезу В- триптофана, индолиламиномасляных кислот, В-аминокислот ряда тиофена и тионафтена, ряда -арилокси-В-аминокислот, дигалоид- замещенных В-тирозинов, разработать оригинальный метод синтеза у-амино-В-аминомасляной кислоты, использовавшейся для лечения психических заболеваний. Можно было заметить, как его научные интересы стали выходить за рамки традиционной аминокислотной тематики. Так вскоре, в результате детального изучения реакции оксиэтилирования аминов были теоретически обоснованы и экспериментально реализованы пути избирательного В-оксиэтилирования диаминов с различными по основности аминогруппами, что позволило разработать принципиально новый способ синтеза противоопухолевого препарата сарколизина. Одновременно разрабатывались методы синтеза сернистых изостеров биологически активных производных индола дигидротиенопирролона и тионафтенопиррола.
Тогда же Владимир Петрович начал формировать новые, перспективные направления научных исследований лаборатории гетероциклических соединений разработку методов синтеза различных функциональных производных шестичленных азотистых гетероциклов, изучение их реакционной способности и таутомерных превращений. На этом фундаменте в лаборатории при участии коллег из других научных коллективов были созданы первоклассные разработки, конкурирующие с зарубежными или вовсе не имеющими аналогов у нас в стране и за рубежом. Уже первые научные результаты, полученные в лаборатории гетероциклических соединений, дали Владимиру Петровичу возможность в 1967 году защитить докторскую диссертацию и начать завоевывать Новосибирскому институту имя одного из ведущих гетероциклических центров страны, регулярно представляя работы лаборатории почти на всех Международных гетероциклических конгрессах, Всесоюзных конференциях и Менделеевских съездах.
Основное направление научных исследований В.П. Мамаева было направлено на разработку методов синтеза и изучение свойств производных шестичленных азотистых гетероциклов. Им был развернут широкий фронт работ по изучению реакционной способности азинов. В ходе этих исследований были разработаны новые подходы к синтезу различных типов пиримидинсодержащих соединений: арилпиримидинов, хиназолинов, спиропиримидинов и конденсированных систем, включающих кольцо пиримидина. Были установлены основные схемы протекания реакций образования пиримидинового цикла. Так был разработан метод получения 2-аминопиримидинов конденсацией с,В-непредельных карбонильных соединений с гуанидином и получены экспериментальные подтверждения схемы протекания сложного многостадийного процесса. Были предложены новые методы синтеза неизвестных пиримидинкарбальдегидов, новых азидо-, амино-, фтор-, нитро-, нитрозо-, циано- и оксо-производных в ряду пиримидина и других гетероциклов.
Фундаментальное значение имеют полученные лаборатории под руководством В.П. Мамаева данные по реакционной способности и проводимости электронных эффектов заместителей в кольце азинов. На основе этих сведений выявлены корреляционные зависимости реакционной способности азинов от характера и положения заместителей в цикле. В более поздних работах были определены электронные эффекты различных азинильных групп и развит подход к количественной оценке электронных эффектов сложных заместителей, в том числе и замещенных азинильных групп.
Цикл работ В.П. Мамаева с сотрудниками по изучению кинетики реакций галоидпроизводных с нуклеофилами позволил дать количественную оценку реакционной способности галоидпиримидинов - ключевых соединений, часто использующихся при получении разнообразных замещенных пиримидинов, определить влияние характера нуклеофила и сольватационных эффектов на эти реакции. Получила объяснение ошибочность утвердившихся в литературе данных об относительно большей нуклеофугной подвижности заместителей B положении пиримидинового цикла по сравнению с положением 2, обнаружено существенное влияние внутримолекулярной водородной связи на скорость реакции нуклеофильного замещения в ряду хлоразинов, содержащих орто-гидроксифенильную группировку.
Было проведено изучение влияния модифицированного гетероатома азинов на свойства последних. В ходе исследований реакций -окисей азинов выявлена высокая подвижность атома брома в 5-бромпиримидин-N-оксидах.
B последние годы своей жизни научные интересы В.П. Мамаева были связаны с изучением кето-енольной, азинил-азинилиденовой и азидо-тетразольной таутомерии. С помощью методов ИК, УФ, ЯМР 'Н, 1oС и 14N с привлечением квантово- химических методов и метода дейтерообмена было изучено таутомерное равновесие замещенных пиримидилметанов. Установлены основные закономерности таутомерного равновесия пиримидиновой и хиноидных пиримидинилиденовых форм.
Не менее значимы были для Владимира Петровича работы по созданию новых веществ для медицины, сельского хозяйства и современной техники - специфических аналитических реагентов, новых лекарственных препаратов, жидких кристаллов, мономеров для высокотермостойких полимеров, свето- и термостабилизаторов полимеров и т.д. Но, несмотря на активное участие во многих таких работах, его фамилию далеко не всегда можно найти среди соавторов той или иной разработки. Только непосредственное руководство разработкой и личное участие в исследовании могли стать основанием для В.П. Мамаева, чтобы включить себя в состав авторского коллектива. Среди таких первоклассных разработок, прошедших серьезную экспертизу специалистов и получивших патентную охрану, можно назвать оригинальные комплексоны для высокочувствительных реактивных бумаг на ионы металлов, комбинированные свето- и термостабилизаторы полиолефинов, пиримидинсодержащие жидкие кристаллы и дихроичные красители для жидкокристаллических композиций, высокотермостойкие и высокомодульные полиимидные пленки и пиримидинсодержащих диаминов, противоэпилептический препарат ГАБОМК, ингибитор моноаминооксидазы Пиказид, эффективный высокоспецифичный противовирусный препарат Силур для лечения герпетических инфекций, антибактериальные препараты на основе дигидробензохиназолинов, светочувствительные компоненты для процесса алюмотипии и материалы специального назначения.
Деятельность В.П. Мамаева не ограничивалась рамками научной работы. Он много времени уделял и преподавательской, и научно-организационной, и общественной работе. В разные годы был руководителем студентов-дипломников, под его руководством выполнено много кандидатских и несколько докторских диссертаций. Ряд его учеников возглавлял научные коллективы в академических и отраслевых институтах и высших учебных заведениях. Самый известный среди них академик Л.С. Сандахчиев, руководитель Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Высокий научный авторитет Владимира Петровича в химических кругах способствовал включению редколлегий ряда отечественных научных журналов и активному участию в работе Совета по тонкому органическому синтезу АН СССР в качестве заместителя председателя Совета и организации И Международных конференций по химии гетероциклов. Высокий авторитет В.П. Мамаева и созданный им научный задел позволил коллективу лаборатории и после его кончины в 1987 г. сохранять длительное время позиции в области известные гетероциклических соединений. Но объективные трудности с обновлением состава научных коллективов и привлечением в науку молодых людей время от времени усугублялись переманиванием "рукастых" сотрудников в другие институтские подразделения. Не миновала эта участь и лабораторию гетероциклических соединений. Но лаборатории удалось, несмотря на кадровые потери, пройти сквозь бури и тернии последних двух десятилетий сохранить наиболее перспективные направления исследований. лабораторию в конце 90-х годов группы д.х.н. А.В. Зибарева привел к расширению научной тематики новый импульс исследованиям в области гетероциклов.
О.П. Шкурко
С Владимиром Петровичем Мамаевым я познакомился вскоре после перевода в 1944 году на третий курс Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева, куда я попал после реэвакуации из Куйбышевского индустриального института. Вскоре у нас установились хорошие приятельские отношения, и наша дружба продолжалась вплоть до безвременной кончины В.П. Мамаева в 1987 году.
Круг наших интересов, в широком смысле этого слова, был достаточно общим: оба мы были в душе и на деле химиками- органиками. Однако направленность наших интересов была довольно различной. Меня интересовали вопросы механизма реакций и, в дальнейшем, приложения органической химии к проблемам биологической химии, Владимира Петровича собственно синтетическая органическая химия. При распределении по специальностям на четвертом курсе мы оба поступили на кафедру полупродуктов и красителей. Заведующий кафедрой Николай Николаевич Ворожцов предложил мне выполнить кинетическое исследование. Мамаев же фактически работал на кафедре органической химии под руководством академика В.М. Родионова, на объектах, по сути не имевших прямого отношения к полупродуктам и красителям.
Наши взаимоотношения с Владимиром Петровичем были весьма многогранными. В первые годы нашей дружбы мы оба были студентами-однокурсниками, защищали наши дипломные работы на одной Государственной экзаменационной комиссии, т.е. были как бы на равных. По окончании института я поступил в аспирантуру Института химической физики АН СССР, а Владимир Петрович был оставлен ассистентом на кафедре органической химии МХТИ, и каких-либо общих научных интересов поначалу у нас не было. Но это не мешало сохранению дружбы, которая основывалась на личных наших отношениях и отношениях между нашими семьями.
Но вскоре у нас начали устанавливаться первые научные контакты. Моей заветной мечтой было приложение химии к проблемам биологической значимости. В это время в биологии «царствовала» так называемая «мичуринская биология». Среди ее многочисленных абсурдных положений было непризнание возможности применения основных положений физической химии для интерпретации важнейших биологических процессов. Поэтому ряд ведущих ученых в области физической химии приступил к организации специальных исследовательских групп, которые должны были начать восполнять это упущение. К их числу относились и такие крупнейшие ученые, как академик Н.Н. Семенов, директор Института химической физики. Он поставил вопрос о создании B руководимом им институте специальных групп, ориентированных на такого рода тематику. Он не только пригласил на работу уже сформировавшихся ярких специалистов в этой области Л.А. Блюменфельда и И.А. Раппопорта, но и хотел привлечь к такой работе молодых, подававших надежды растущих ученых. Такое предложение было сделано и мне, и я начал формировать группу для работы по этой тематике. Никаких конкретных указаний я не получил - мне было предложено самому сформулировать направление исследований. И на первых порах я остановился на вопросах биосинтеза белков. Но для планируемой работы были нужны пептиды, и я предложил их синтез Мамаеву, который с этой целью был принят по совместительству в Институт химической физики. Он синтезировал трипептид, который был нужен для начала этой работы. Речь, естественно, шла о перспективной работе, в которой участие его как синтетика, было чрезвычайно существенно. Однако на первой же сделанной и опубликованной работе эта программа была остановлена. Как раз в это время началась организация Сибирского отделения Академии наук. Н.Н. Ворожцову было предложено организовать B составе Сибирского отделения AH CCCP Новосибирский институт органической химии, и Ворожцов хотел сформировать костяк нового института из хорошо известных ему начинающих ученых. В их числе, естественно, оказался В.П. Мамаев, который занялся организацией Лаборатории синтеза физиологически активных веществ. Продолжать ему уже в ранге заведующего специализированной лабораторией вспомогательные синтетические работы большого смысла не имело, и начавшиеся было совместные работы были прекращены.
Здесь уместно отметить, что Владимир Петрович был именно прирожденный химик-синтетик, и прикладная направленность работ его в ту пору не очень интересовала. В сфере его интересов на первом месте был синтез гетероциклических соединений и особенно пиримидинов. Поэтому со временем он переименовал свою команду в Лабораторию гетероциклических соединений. В этой области он сформировался как ведущий специалист по химии пиримидинов. Одновременно с этим В.П. Мамаев был приглашен на должность заместителя директора НИОХ по науке, что дало возможность, когда Н.Н. Ворожцов по болезни вышел из строя, сделать его директором института. посту директора Владимир Новосибирского института органической Петрович оставался до самой кончины.
Несмотря на то, что на длительный период времени мы с Мамаевым оказались разных "весовых категориях", это отразилось на наших практически не отразилось на наших взаимоотношениях. В.П. Мамаев не относился к категории директоров, которые стремятся развернуть весь институт в сторону своих научных интересов. Поэтому он практически не вмешивался в научную отдела биохимии, которым я деятельность руководил до преобразования отдела в отдельный Институт биоорганической химии. На первом этапе становления будущего отдела биохимии Мамаев пошел на большую "жертву" после моего первого выступления на Ученом совете института в наш начавший формироваться биохимический коллектив попросился сильнейший научный сотрудник Мамаева Лев Сандахчиев. И Мамаев дал на это согласие, хотя в целом перебежки сотрудников из одной лаборатории в другую не особенно поощрялись. Л.С. Сандахчиев довольно быстро защитил кандидатскую диссертацию, затем стал доктором наук и согласился на переход в качестве заместителя директора по науке во вновь организуемый Институт молекулярной биологии Главмикробиопрома. Позднее он стал Генеральным директором Научно-производственного объединения «Вектор» и был избран академиком. Так что есть основание считать, что среди учеников В.П. Мамаева имеется один действительный член Академии наук.
B дальнейшем, B силу непрерывно возрастающей популярности биохимии, на специальность «биохимия» стало проситься большое число выпускников НГУ, и ни интересы института органической B целом, НИ физические возможности биохимической команды не позволяли полностью удовлетворить эти пожелания. Мамаев, как любитель порядка, специально поговорил со мной и сказал, что биохимические исследования не должны занимать более одной трети деятельности института. было единственным ущемлением работ биологической направленности за всю историю существования Отдела биохимии в составе НИОХ, и, по-моему, это было совершенно справедливым решением органическую химию как самостоятельную дисциплину следовало развивать, тем более в таком растущем научном центре, как Сибирское отделение Академии наук.
Наша дружба с Владимиром Петровичем не ограничивалась деловыми контактами. У нас сложились очень дружественные отношениями между семьями. С женой Владимира Петровича Еленой Каллиниковной я познакомился за насколько лет до того, как они вступили в брак. В то время была она ещё Леной Малининой. Училась на той же кафедре, что и мы с Владимиром, но на курс позже. Лена была очень милой женщиной, но ее роль в жизни моей семьи не ограничивалась взаимной симпатией. Она оказывала существенную помощь в решении серьезных жизненных проблем, с которыми сталкивалась моя семья. Среди этих проблем я ограничусь одной, связанной с Сережей Пикаевым сыном моей жены от ее первого брака. Он и в детстве проявлял определенные трудности, но у кого их не бывает. С годами общение с ним затруднялось, что усугубилось впоследствии болезнью моей жены. А человеком, с которым у Сережи установился определенный и, может быть наилучший контакт, оказалась Лена Мамаева. Это было очень существенно, так как в те времена я довольно много ездил в командировки, и оставлять больную жену один на один с Сергеем было крайне нежелательным. И помощь Лены Мамаевой в поддержании терпимой обстановки в нашей семье оказалась очень существенной.
Близкое мое знакомство с Леной Мамаевой началось с горных походов, в том числе с похода 1946 года, когда мы все трое впервые побывали в настоящих горах прошли через Клухорский перевал на Кавказе. Чтобы повысить свою квалификацию как горных туристов, мы с Владимиром в 1947 году съездили в альпинистский лагерь. У меня, к сожалению, финал этой поездки оказался неблагополучным, но он нормально прошел весь курс и некоторое время спустя стал инструктором по горному туризму. Это дало ему возможность не только регулярно бывать в горах, но и получать, как инструктору, некоторую материальную поддержку, что для него было существенно, так как его тогдашняя семья (мать и сестра) жила достаточно бедно. Несмотря на финансовые трудности, мы скопили необходимый минимум денег, чтобы в 1948 году пойти в поход через более серьезный перевал Шари-Вцек. Поскольку уже в походе через Клухорский перевал стало очевидно, что Мамаев сильнее меня, как горный турист, то начальником этого похода был назначен он. Это, однако, не избавило нас от определенных просчетов. Как раз на самом перевале началась гроза, и нужно было побыстрее уходить с самого верха, где вероятность попадания молнии повышена. И, увидев мелкокаменистую осыпь, идущую вниз, Мамаев, не тратя времени на поиски хорошей тропы, смело повел нас по этой осыпи. Однако выяснилось, что осыпь далее выводит к крутым непрочным скалам. Неоднократные попытки уцепиться за камень приводили к тому, что этот камень отваливался, так что только чудом турист, пытавшийся таким образом задержаться на крутой скале, не сваливался далее вниз. К счастью, под скалами начинался крутой снежник, что уменьшало опасность катастрофы в случае срыва. Но этот урок мы с Мамаевым хорошо запомнили, и в дальнейшем внимательно просматривали, куда можно попасть, отклонившись от основной тропы, и спуск этот неоднократно вспоминали. В дальнейшем мы вместе неоднократно ходили в походы, сначала по Кавказу, а после переезда в Сибирь, и в различные районы Средней Азии.
Не только описать, но и просто перечислить наши туристские походы здесь не представляется возможным. Однако я хотел бы специально упомянуть наши последние походы по Памиро-Алаю. Дело в том, что к этому времени у Владимира Петровича открылся диабет, и он нуждался в ежедневных уколах инсулина. И несмотря на это, продолжал ходить в горы, таская с собой коробочку с ампулами и шприцами, и ежедневно проводил все необходимые процедуры и соблюдал нужную при диабете диету. Это наглядно показывает, какое значение для него имело общение с горами. И можно с определенностью сказать, что важной частью жизни Владимира Петровича были его горные походы. Они помогали ему сохранять жизненную энергию и давали новые силы для работы, которой естественно он уделял первоочередное внимание, как ученый и руководитель академического института.
Д.Г. Кнорре
... Друзей моих прекрасные черты
Появятся и растворятся снова.
По мере того, как жизнь неумолимо насчитывает нам годы, все более остро приходит осознание того, как много значат для нас настоящие друзья. Я имею в виду друзей в высоком понимании этого слова. Мы можем иметь много хороших товарищей и знакомых и менять их по обстоятельствам. Но друг — это подарок судьбы. Друзей не бывает много. Говорят, что «не трудно умереть за друга. Трудно найти друга, за которого стоит умереть». И хотя это высказывание из области юмора, но оно несет в себе глубокий смысл. Таким другом был для меня Владимир Петрович Мамаев. Он вышел из моей молодости, когда мы верили так, как можно было верить только в те далекие прекрасные годы. Мы вместе пронесли эту веру и верность через годы и десятилетия. Увы, жизнь оказалась не такой длинной, какой она представлялась тогда, в годы нашего студенчества.
Весной 1944 года, после окончания 7-ми классов, 1,5 лет учебы в техникуме и 5-месячных экзотичных подготовительных курсов при МХТИ им. Д.И. Менделеева, завершившихся сдачей экзаменов на аттестат зрелости по программе сразу за 8, 9 и 10 классы, я был зачислен студентом в этот Институт. Это было необычным, даже для того времени, катапультированием из здравого смысла, завершившимся счастливым концом. Дорого то, что достается с трудом. Желание и полная самомобилизация сработали.
Итак, 1944 год. Война еще бушевала. Мы еще ходили голодными и холодными. Но победа уже приближалась. В то время все мы были воспитаны под влиянием чувства долга, патриотизма, любви к Отечеству. Во всех жила гражданская ответственность и активная жизненная позиция. Все мы были вовлечены в общественную работу комсомольскую, профсоюзную, спортивную и др. В такой среде обитания каждый чувствовал свою востребованность, свою причастность, свою перспективу. Увы, для современной молодежи такие чувства и интересы почти утрачены. Меня избрали в комсомольский комитет МХТИ. Вскоре группа студентов 3-го курса активистов и туристов избрала меня председателем туристско-альпинистской секции Института. В этой группе студентов были В.П. Мамаев и Д.Г. Кнорре. Так мы встретились и очень быстро сблизились до такого состояния, которое называется дружбой. Для меня это был щедрый подарок судьбы. Так уж случилось в жизни, что я впервые принимал от нее такой дар. Нас объединяли общие взгляды на жизнь, общие интересы, взаимопонимание и доверие. Я с огромным уважением к этим моим друзьям наблюдал, с какой ответственностью они относились к любому делу, к учебе, к своим обязанностям, к любым мероприятиям.
Их образ жизни невольно напоминал о том, что цена жизни зависит лишь от того, как Вы ее употребили и чем Вы ее заполнили. И понятие существовать означало действовать, потому что мы живем, пока действуем и действуем, пока живем. Так уже в те годы студенчества у моих друзей формировалось убеждение в том, что, как сказал Р. Роллан: «Труд единственный титул нашего благородства», потому что он является источником всего и самой жизни. Но не только делами жили мы.
Мы умели и отдыхать, и веселиться. Мы часто ходили в туристические походы по Подмосковью. Обычно Владимир вел свою группу, выезжавшую на место старта с одного из вокзалов Москвы, а я вел свою, отбывавшую с другого вокзала. Затем мы шли друг другу навстречу (20-30 км) и встречались на полпути нашего хода. Это были искренние радости встреч. Мы организовали «тайное общество «ДОПС» («Добровольное общество полусумасшедших»). По тем временам это была почти политическая крамола, не совмещавшаяся с понятиями комсомола. В члены общества принимались успевающие студенты-туристы за особые заслуги на поприще полусумасшедших поступков. Прием осуществлялся только ночью в дремучем лесу у костра «сложным большинством» голосов. Голосование осуществлялось лежа на спине поднятием любого числа конечностей. Особо отличившимся на поприще полусумасшедших поступков вручались ордена или малой, или большой мозговой извилины. Несмотря на свою серьезность, Мамаев все это воспринимал с хорошим юмором. Более того, он был одним из организаторов этого «тайного общества».
Однажды, в поход он пришел с удивительно обаятельной и милой девушкой. От нее исходила какая-то влекущая аура. Я спросил одного осведомленного туриста: «Кто это?» И он шепнул мне: «Это Лена невеста Мамаева». Так я познакомился с его будущей спутницей жизни. С годами мы стали близкими друзьями. Лена удивительно и гармонично вписалась в жизнь Мамаева. Через много лет, уже после смерти самого Владимира ушла из жизни и его спутница Лена, Елена Каллиниковна. На ее похоронах я излил свои чувства к ней. Приведу часть того, что я произнес на ее похоронах, потому что она имеет прямое отношение к единственному и навсегда выбору Мамаевым своей спутницы: «Елена Каллиниковна прошла свой жизненный путь достойно, мужественно и честно. Она всегда занимала активную жизненную позицию, всегда имела идейную основу и убежденность в своих делах и поступках. В ней постоянно присутствовали чувства долга, принципиальность и требовательность к себе, трудолюбие и добросовестность, трезвость И широта суждений, глубокое понимание жизни и скромность. На этого человека всегда можно было положиться со стопроцентной гарантией. Все это умещалось в красивой и обаятельной, умной и принципиальной женщине, которая любила жизнь, ценила юмор, умела быть прекрасной женой, матерью, а затем и бабушкой. Сама жизнь на земле, се поступательное развитие держится на таких, K сожалению, немногих личностях». Все это, сказанное мною, характеризует и самого Владимира Петровича, ведь это его пожизненный выбор и его влияние. Уже в годы студенчества он отличался не просто активностью и добросовестностью во всех делах, включая учебу. Он любил точность и определенность во всем. Это был человек, который если что-то планировал, что-то обещал, что-то делал, то во всем проявлял какую-то педантичность и нетерпимость послаблениям и отклонениям от намеченного. Конечно, все это могло им корректироваться, но лишь при условии, что появлялись какие-то особые новые обстоятельства.
И эти черты характера образцово-показательного студента необыкновенным, непостижимым образом вполне гармонично сочетались с совершенно другим образом студента - хохмача и заводилы. Так однажды, на лесном заседании ДОПС а он предложил устроить товарищеский ужин с поеданием пикантного блюда жареных красных мухоморов. В лесу их оказалось много. Этим предложением он смутил даже членов ДОПС`а. Но Мамаеву так верили, что сложным большинством проголосовали «за». Все ждали, чем это кончится. Мамаев готовил блюдо. Снял красную кожицу, отварил грибы в трех водах, порезал, пожарил... Съели и стали ожидать последствия. Утром была всеобщая радость все проснулись... Не помню, наградили ли его орденом «большой мозговой извилины».
Вскоре после войны наша полуальпинистская группа нелегально проникла в места недавних боев на Кавказе. Нелегально потому, что места эти в то время были не очищены от последствия боев и безлюдны. В составе нашей группы были студенты В. Мамаев, Д. Кнорре, М. Фиошин. (будущий профессор МХТИ), Н. Борисов (будущий профессор и лауреат Ленинской премии) и автор этих воспоминаний.
Мамаев знал об этих запрещенных районах, но, как говорится, если очень хочется, то можно. Он и возглавил группу. И вот мы там. В Боксанском ущелье и на склоне Эльбруса, на «Старом кругозоре» и «Приюте одиннадцати» сохранилось все, что осталось после боев с немецкой дивизией «Эдельвейс». Валялись автоматы, минометы, снаряды, каски. Не было только трупов. Видимо, их успели убрать. Нам во всем представилась картина боев в горах. Как видно, с довоенной поры альпинисты туда не проникали.
Кто-то родил идею сбросить с площадки «Старого кругозора» в ущелье штабель минометных снарядов. Мамаев выразительно покрутил указательным пальцем во лбу, и все осознали «бред пьяного индюка». Стало понятно, что за этот поступок не дадут даже орден «малой мозговой извилины».
Между тем, в МХТИ Владимир был примерным студентом. Он не только успешно осваивал множество предметов, находил время совмещать обучение с научной работой на кафедре. И поэтому, когда B 1947 году он окончил МХТИ им. Д.И. Менделеева по специальности «технология полупродуктов и красителей», Дальнейшего полета была траектория его дальнейшего полета была предопределена: он поступил в аспирантуру, а по окончании ее был оставлен в Институте в качестве ассистента кафедры органической химии. К 1951 году он выполнил и защитил кандидатскую диссертацию. После успешной защиты в звании доцента на кафедре органической химии он работал до 1956 года. Но, с точки зрения моих наблюдений, это уже хронология.
Дело в том, что после окончания МХТИ моя связь с моими на целое друзьями прервалась десятилетие. Я уехал спецнаправлению на строительство НОВЫХ промышленных объектов на Чирчикском электрохимическом комбинате им. И.В. Сталина (в 40 км от Ташкента) и работал там до 1957 года. Мне тоже повезло. Работа по созданию новых объектов была не только увлекательной, но и результативной. Я получил огромный и многогранный опыт и в придачу получил высшую по тем временам премию. Я стал самым молодым в СССР лауреатом Ленинской премии. Из Чирчика в 1957 году я перебрался в Международный объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна), где тоже защитил кандидатскую диссертацию. Здесь я упомянул о некоторых событиях моей жизни лишь для того, чтобы попытаться объяснить, каким образом превратности судьбы снова свели меня с моими друзьями.
Дело в том, что в 1959 году по приглашению директора Новосибирского института органической химии СО АН СССР Н.Н. Ворожцова Мамаев переехал В Новосибирск и стал заведующим лабораторией. А в 1961 году после моей защиты кандидатской диссертации директор Института катализа СО АН СССР Г.К. Боресков пригласил меня в Институт его вторым заместителем и одновременно заведующим лабораторией. И вот, в августе 1961 года я впервые оказался в Сибири. И тут я совершенно неожиданно для себя встретил моих «старых» дорогих друзей - В.П. Мамаева, Д.Г. Кнорре, Г.Г. Якобсона (с ним я учился на одном курсе МХТИ). Радость была превеликая.
В первые же дни пребывания в Академгородке я побывал в мне еще более гостях у Мамаевых. Его Лена показалась очаровательной. По случаю встречи мы распили бутылку хорошего вина (из Москвы), и все стало на свои места.
Тогда Мамаеву было всего 36 лет. Он был полон азарта и вдохновения, веры в будущее и полностью отдавал себя науке. Весь его образ говорил, выражаясь словами Гете, что «только в усилии исполнить должное человек познает себе цену». Ему в жизни повезло в главном. Он со своими убеждениями оказался в той среде обитания, где все особенности его конструкции и убеждений совпали с тем долгом, который ему предстояло исполнить. И именно это единение делало его абсолютно свободным. Что же может быть более прекрасным, чем такая свобода?! Здесь уместно вспомнить слова и Л. Леонова о том, что «сила патриотизма всегда пропорциональна вложенному в него личному труду». Уже по этому тесту В.П. Мамаев был настоящим патриотом. В какой-то мере в ту эпоху все мы были немного идеалистами и верили, что если наши заботы и печали обращены не внутрь себя, не на любовь к себе, а отдаются на благо Отечества и людям, то такое состояние дарит человеку высший смысл жизни.
А жизнь шла по своим законам. Избыток энергии Владимир направлял, как и в годы студенчества, летом на туристические походы, зимой на лыжные пробеги. Где-то вначале 60-х годов он своими руками соорудил что-то вроде низенького микромопеда. На нем он выглядел совсем уж мальчишкой, сидящем на корточках. В 36-37 лет все еще было впереди, а положение его к этикету не обязывало. И он с моторным треском гонял по тогда немногочисленным улицам строящегося Академгородка. Позже мы вместе увлеклись лодочными походами. Стали «морскими душами» и на «моторках» ходили даже до Барнаула. Но и в этих плаваниях он любил порядок и дисциплину.
Н.Н. Ворожцов ценил Мамаева высоко, их отношения становились товарищескими. От себя замечу, что лично я среди всех первых директоров химических институтов Академгородка (Г.К. Боресков, Н.Н. Ворожцов, А.А. Ковальский, А.В. Николаев) более всего уважал Николая Николаевича. Среди прочих достоинств, которые он имел как ученый и директор Института (научных, организационных, идеологических, нравственных и др.), он отличался простотой и доступностью, любил юмор и хорошую компанию.
В одной такой компании на квартире Мамаева произошла такая история. Тогда он жил в доме по улице Жемчужная. По какому-то торжественному случаю вечером собрались близкие друзья. Помню, что там был Д.Г. Кнорре, Г.Г. Якобсон, Н.Н. Ворожцов и несколько других приятных персон. Праздничный стол был изысканно приготовлен Леной. Он выглядел столь вкусно, что желудочный сок начал выделяться преждевременно. Все предвкушали... и нацелились. Один из присутствующих стал открывать бутылку шампанского. Неожиданно пробка вылетела, врезалась в люстру. Люстра рассыпалась на мелкие кусочки, как боевая шрапнель и покрыла все яства на столе. Тут возникла немая сцена, достойная кинохроники. Лица обрели глупое выражение, а желудочный сок выделяться перестал. Однако Николай Николаевич сцену эту прервал с веселой улыбкой, как будто ничего не произошло. Он промолвил: «Отбой на 5 минут. Каждый пусть возьмет по блюду и снимет верхний слой. Заседание продолжается... Председателем буду я» ... Оцепеневшая Лена проснулась от летаргического состояния. «Заседание» прошло весело...
В 1965 году В.П. Мамаев был назначен заместителем директора НИОХ Н.Н. Ворожцова. Дела у него шли хорошо. Но в жизни, увы, не все зависит только от нас, т.к. пути и мысли Господни неисповедимы. Зима 1972 года вошла в его жизнь и в историю НИОХ мрачной страницей. Сотрудники НИОХ помнят тот пожар, который вывел из строя практически весь главный корпус.
Слетелась высочайшая И крайне недоброжелательная комиссия. От химиков СО АН СССР в комиссию был введен я. Уже на первом организационном заседании комиссии был дан ориентир: «За столь масштабное «ЧП» нужно привлечь к ответственности заместителя директора, придется пожертвовать Мамаевым». Меня это заявление привело в великое возмущение, которого внешне я не выдал. Ведь еще ни в чем не разбирались, а вердикт уже готов! Вскоре я узнал, что среди членов комиссии много реликтовых особ, есть и динозавры, и мастодонты. На мой взгляд, комиссия работала топорно и бездарно. Особенно поразила меня безмозглая работа прокурора, строго придерживавшегося в своих действиях какой-то инструкции. Я опускаю здесь подробности. Опишу лишь завершающий аккорд. На последнем заседании встал вопрос о написании акта и заключения по расследованию. Был озвучен роковой вопрос: кто возьмется обобщить материалы всех участников и на их основе сотворить эпохальный «Акт». Все молчали. Я понимал, что динозавров допустить нельзя. Я встал и сказал, что я здесь от химиков и потому было бы логично поручить это мне. Все охотно согласились.
Через несколько дней я представил свое литературно- художественное сочинение. В нем, чтобы все члены были удовлетворены, чтобы всем «угодить», я постарался учесть их исходные замечания и материалы. Акт, естественно, получился очень длинным, но хорошо отработанным. Всем понравилось. Дискуссия не возникла. Все подписали. Только потом осознали, что из содержания «Акта» следует, что в формуле «Казнить нельзя помиловать» точка поставлена не там, где исходно ее хотели видеть. Все в недоумении помолчали, поскрипели, но... махать кулаками не стали. Так все и осталось.
В заключение этой истории нельзя не вспомнить, как много переживаний в ней вынес мой друг. А ведь действительно он виноватым не был. Истинная же причина возникновения пожара была проблематична. Потом вся тяжесть восстановления НИОХ, естественно, легла на плечи Владимира и, конечно, коллектива Института. Они с ней достойно справились. В 1975 году В.П. Мамаев был назначен директором НИОХ.
В моих воспоминаниях я лишь фрагментарно, немногими штрихами попытался воссоздать образ моего друга. Говорят, что природа не терпит пустоты. Оказалось, что есть исключения. В нашем возрасте потери друзей невосполнимы, и пустота, остающаяся после их ухода, может быть заполнена лишь добрыми воспоминаниями и благодарностью им за то, что они были.
Л.Н. Толстой как-то сказал: «Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека быть полезным И иметь чистую совесть». Быть полезным это искусство, которое дано не всем. Этим искусством Владимир владел в полную меру. В этом смысле мой незабвенный друг был счастливым. Если в истории есть какой-то прогресс, то он есть благодаря таким людям.
Р.А. Буянов
C Владимиром Петровичем Мамаевым я познакомился задолго до нашей очной встречи. Расскажу все по порядку. Думаю, что многие химики-органики моего поколения в качестве настольных имели две серии книг: отечественные «Реакции и методы исследования органических соединений» и переводные «Органические реакции». Остается только вздохнуть по тому времени, когда издание книг по химической проблематике, в том числе переводных, было массовым и относилось к числу дел государственного значения. Выдающуюся роль сыграли эти книги в качестве инструмента самообразования для химиков, которым довелось участвовать в становлении химической науки в регионах страны, удаленных от крупных научных центров. Знаю, что чтением серийных монографий не пренебрегали инженеры- технологи, работники заводских лабораторий И производств химической и фармацевтической промышленности. Промышленность шагала тогда семимильными шагами, утверждаясь в восточных регионах страны. Как активный читатель таких серийных монографий автор этих строк не составил исключения. Если говорить об упомянутой серии, окрещенной в среде химиков аббревиатурой РИМИОС, то для меня стремление иметь в личной библиотеке все без исключения тома было «влечением рода недуга».
На память пришел один из эпизодов охоты за РИМИОС. Летом 1960 года BO время очередной экспедиции нашей Лаборатории химии растений Института химических наук АН Казахской ССР, руководимой в ту пору академиком М.И. Горяевым, очутились мы в Самарканде. Проезжаем мимо книжного магазина. Прошу не очень довольного остановкой шофера подождать несколько минут. Вбегаю в магазин. О, радость! Вижу, что к моему собранию из первых семи томов РИМИОС я могу прибавить еще книги восьмую и девятую. Путь по дорогам Средней Азии неблизкий. Начинаю читать приобретенные книги, лежа под тентом в кузове нашего экспедиционного ГАЗ-51: Н.Н. Суворов, В.П. Мамаев, В.М. Родионов «Синтез производных индола из арилгидразонов». В этом же девятом томе обзор В.А. Бархаша и И.В. Мачинской о бромировании органических соединений. Поймут ли меня молодые химики, если скажу, что тогда для меня, недавнего выпускника университета, имена авторов статей в престижной серии книг не были пустым звуком? Не знаю. Поскольку читателем я был таким, что большинство прочитанного прочно оседало B памяти, то естественно, авторы особо интересных статей становились близкими, знакомыми без знакомства.
Следующая памятная дата, связанная с именем Владимира Петровича, относится к 1972 году. ...Я работаю в Уфе заместителем директора Института химии Башкирского филиала АН СССР. Мой директор Сагид Рауфович Рафиков рассказывает о выборах в Академию наук и о вновь избранных. Называет фамилию Мамаева и говорит о том, что голосовал за сибиряка с большим удовольствием, поскольку химик он классный и человек, как ему представилось, порядочный.
Для меня выборы Владимира Петровича значили то же, что выборы хорошо знакомого приятного человека. Работы Владимира Петровича по химии пиримидина мне нравились. И хотя прямых связей с интересующей меня проблематикой я не видел, все же пометил в своих записях «на всякий случай» несколько методов, разработанных в лаборатории Владимира Петровича.
Пройти мимо химии пиримидина мне не удалось. В ходе исследований циклических сульфонов мы натолкнулись на новый класс мощных противовоспалительных агентов. Было решено осуществить синтез соединений, содержащих фрагменты пиримидина и сульфолана, т.е. получить модифицированные нуклеозиды, у которых роль углеводной части играл бы заместитель сульфоланового ряда. Публикации Владимира Петровича послужили мне крепким подспорьем. Одним из практических выходов временного увлечения химией пиримидина стал 5-гидрокси-6- метилурацил, для Министерства обороны нашли очень перспективное направление специального использования.
Не могу не подчеркнуть, что все мои обращения к за помощью, как Владимиру Петровичу к директору Новосибирского института органической химии, получили полное понимание и поддержку. Так, в опытном цехе НИОХ по моей просьбе была проведена наработка 3,4-диоксисульфолана, который был положен B основу противовоспалительного препарата «доксилан». Это была по- настоящему товарищеская поддержка, говорившая о директоре НИОХ как о человеке, ВЫСОКО ставящем академическое товарищество и ценящим полезные начинания в Академии наук.
Второе воспоминание имеет много личного, важного для моей семьи. Владимир Петрович участливо отнесся к моему сыну Александру, дав благословение на защиту его кандидатской диссертации в апреле 1986 года в Ученом совете НИОХ.
Очень приятным остается для меня воспоминание о лете 1986 года, когда мы чудесно пообщались с Владимиром Петровичем на Международном симпозиуме по органическому синтезу в Москве. Снимки, на которых мы запечатлены с ним, относятся к числу самых памятных моих фотодокументов. Что же дальше?
А дальше хочется вновь и вновь укорить себя за то, что не следуешь принципу: «Торопитесь общаться!». Осенью 1987 года в Москве идем мы с академиком О.М. Нефедовым по ул. Горького и встречаем Владимира Петровича. Встреча очень теплая. Мне приятен этот человек, лестно его внимание. Он рассказывает нам, как бы между прочим, что ему предстоит не очень сложная операция. Расстаемся пожеланиями вновь увидеться. Не пришлось.
В заключение выскажу несколько соображений, рискуя не всеми быть понятым. Мне представляется, что самой судьбой отряженный быть синтетиком, Владимир Петрович вынужденно, под влиянием волны исследований в области физической органической химии, временами отходил от своего химического естества. Им сделано в области синтеза очень много. Его работы не должны быть забыты нами, сотрудниками НИОХ. Мировая синтетическая химия их не забудет.
К счастью, результатам высококлассных исследований суждена долгая жизнь. В отличие от теоретических исследований, полученные синтетиком вещества живут, пока жива химия, и готовы раскрыть перед внимательным исследователем все свои явные и скрытые пока возможности.
Г.А. Толстиков
О В.П. Мамаеве вспоминал В.А. Ливанов, один из первых сотрудников института, долгое время бывший заместителем директора НИОХ:
"Владимир Петрович Мамаев был не из тех людей, которые сразу производят впечатление, поражают с первого взгляда. Но чем больше узнавал я его, тем большим уважением проникался к нему.
Познакомился я с Владимиром Петровичем 30 ноября 1959 года - Николай Николаевич Ворожцов привел меня в дом к Владимиру Петровичу на его день рождения. В Академгородок я приехал из Перми, где работал на крупном промышленном предприятии, чтобы обсудить с Н.Н. Ворожцовым возможность перехода в НИОХ. Николай Николаевич хорошо меня знал в 1941 году в Алма-Ате я заканчивал под его руководством университет.
Не могу сказать, что при встрече В.П. Мамаев произвел на меня неизгладимое впечатление- обычный хороший мужик. Но симпатией друг к другу мы прониклись, решая вместе много вопросов, в период организации института. Что прежде всего обращало на себя внимание во Владимире Петровиче, так это четкость в делах и мыслях, аккуратность, я бы даже сказал, некая щепетильность во всех делах. И когда он возглавил институт, эти его качества особенно помогали в повседневных заботах. Принимая решение, он расставлял все точки над і, формулируя проблему, давал точный ответ - «да» или «нет». И всегда держал слово. То есть, был абсолютно надежен!
И еще, Владимир Петрович был чрезвычайно организованным человеком, сам никогда и никуда не опаздывал и принципиально не понимал необязательных людей. Обычно я вместе с ним ездил домой на обед. Машина подавалась к институту к часу дня и ровно в 13.00 отходила. И если я, скажем, задерживался на минуту-другую, то добирался до дома самостоятельно.
Он всегда участвовал во всех институтских мероприятиях - и когда был заведующим лабораторией, и будучи директором Института. Не могу сказать, что на вечерах Владимир Петрович был душой компании (душой компании всегда был Валентин Афанасьевич Коптюг). Но его присутствие как-то подтягивало, хотелось в его глазах выглядеть безукоризненно.
Владимир Петрович прожил хорошую жизнь, добился значительных результатов в науке, был известен среди коллег в стране и в мире, руководил крупным научным коллективом. Но всегда оставался удивительно скромным, сдержанным человеком."
Мне довелось пройти с Владимиром Петровичем путь от старшего лаборанта, пробующего себя в науке, до заместителя директора НИОХ по науке.
Среди достоинств этого неординарного человека мне бы хотелось особо выделить одну черту обязательность. Если Владимир Петрович что-нибудь обещал или принимал какое-либо решение, то можно было не сомневаться - все будет исполнено в точности. Как-то, неосторожно дав согласие заняться темой, которой интересовались военные, мы долго не могли выпутаться из сетей секретности и были вынуждены довольно длительное время придерживаться предписанного ритуала выполнения работ. Владимир Петрович понимал, что следовало бы повернуть назад, но считал, что это нехорошо, непорядочно и нельзя подводить заказчиков.
Иногда такое отношение к делу можно было принять за простое упрямство, т.к. убедить его поменять свое решение было очень непросто. Однако, если глубоко задуматься, то можно было понять, что эта черта характера проистекала из его высокой порядочности (хотя она ему самому иногда доставляла немалые неудобства).
Непреклонность шефа, конечно, создавала определенные трудности в совместной работе, хотя с другой стороны, придавала уверенность, что Владимир Петрович никогда не «подставит» и обязательно выполнит свои обещания. Ну а трудности легко снимались более активным участием в принятии решений.
Кроме постоянного общения на работе, мы регулярно проводили значительную часть отпуска вместе в походах: пеших, лодочных или на автомашинах. В конце концов, даже образовалась достаточно устойчивая лодочно-автомобильная группа, которая объединила семьи В.П. Мамаева, А.Г. Хмельницкого и мою. Этим составом мы плавали на острова вверх и вниз по Оби, ездили по области и на Алтай. Инициатором и вдохновителем этих передвижений чаще всего выступал Владимир Петрович, который просто не мыслил себе иной вид отдыха.
Обязательность и четкое следование данному слову отличали В.П. Мамаева не только на службе. «Уж лучше мокнуть под дождем, чем в душной комнате томиться» часто слышали мы от него, выходя в дождь в строго намеченное время в море на лодках, или отправляясь в поход на машинах или пешком.
Отказаться от общения или поменять решение его могло заставить только стихийное бедствие или сверхъестественные обстоятельства. Так, осенью 1975 года на островах напротив Борового наши три лодки (тогда вместе с нами был Е.П. Фокин с семьей) накрыл мощный шторм, который не прекращался трое суток, заставил нас перейти на подножный корм (хлеб и другая еда кончились, но было много подосиновиков). Владимир Петрович очень переживал, т.к. обещал приплыть пораньше, много раз пытался выйти в море. Когда мы все же рискнули отправиться домой, добрались до места, на лодочной базе нас встретила его супруга, Елена Каллиниковна (ее почему-то не было с нами в тот раз). Она уже организовала спасательный катер, т.к. знала, что Владимир Петрович непременно будет стремиться вернуться домой в назначенный срок. Чувствуя себя нездоровым, он оставался все таким же обязательным человеком. намечался семинар, собрание или поездка на острова это непременно выполнялось.
Г.В. Шишкин
C Владимиром Петровичем Мамаевым я впервые познакомилась в 1962 году, когда он был заместителем директора НИОХ и одновременно секретарем парторганизации института и вел обязательное знакомство с поступающими на работу в институт. Он сразу же произвел на меня впечатление чрезвычайно серьезного руководителя, пытающегося понять и оценить будущего сотрудника. В последующие годы мне пришлось довольно часто встречаться с Владимиром Петровичем как по научным и организационным проблемам фармакологической группы, так и многим общественно-политическим вопросам по линии партийного бюро.
Первое, что необходимо отметить, вспоминая Владимира Петровича, это был человек прекрасно воспитанный и чрезвычайно организованный. С любым сотрудником института разговаривал уважительно и обстоятельно, независимо от его ранга. Владимир Петрович мог скептически отнестись к просьбе или предложению, но всегда предоставлял возможность спокойно обосновать их. Это часто приводило к положительному решению. Попасть к нему на прием в период его работы заместителем директора института и позже, когда он стал директором, никому не составляло проблемы - достаточно было записаться на прием и твое время никто не мог занять. Но если сотрудник не приходил в отведенное время, следовало наказание отказ на запись в очередной раз. И этот порядок всеми неукоснительно соблюдался.
И самое главное, что было заложено еще академиком Н.Н. Ворожцовым при организации института, принятые решения В.П. Мамаев никогда не отменял произвольно, без обсуждения и без совета с сотрудниками.
Владимир Петрович был прекрасным семьянином. Мы, старшее поколение, хорошо знали его семью, дружили с его женой и знали, сколь важна роль Елены Каллиниковны в жизни мужа. Их уход оставил в наших сердцах глубокую скорбь. Но их светлые образы постоянно хранятся в нашей памяти.
А.С. Лапик
Неумолимое время многое стирает в памяти, но некоторые, наиболее яркие эпизоды остаются.
Хотя Владимир Петрович и был членом КПСС, все же он с уважением относился к правам человека. Вспоминается случай со Светланой Аркадьевной Амитиной. Она была принята в ЛИМОР для работы по пестицидной программе. Работала хорошо и много, и я как заведующий ЛИМОР обратился к директору В.П. Мамаеву с просьбой перевести ее на должность ведущего инженера, что позволило бы повысить ей зарплату. Владимир Петрович, сославшись на плановый отдел, сказал, что такой должности в лабораториях, к сожалению, быть не может. Следуя известному принципу «Доверяй, но проверяй», я «покопался» в нормативных документах и обнаружил, что директор был дезинформирован. Как только он ознакомился с соответствующим документом, сразу же был издан приказ о переводе С.А. Амитиной на эту должность.
Мне посчастливилось несколько раз быть C В.П. Мамаевым в горных походах. Вспоминается его ровный, доброжелательный характер и богатое чувство юмора: когда по вечерам все участники туристской группы дрожали от холода у костра и надевали свитера, Владимир Петрович, одетый в одну рубашку, говорил: «Да, что-то стало холодать, пора надевать майку».
Он любил порядок во всем, в том числе в мелочах. Вспоминается, как часто он цитировал известную притчу о разбитой армии из-за того, что в наличии не оказалось гвоздя для того, чтобы подковать боевую лошадь. Жизнь вновь и вновь подтверждает справедливость этих слов.
В.П. Мамаев был скромным человеком, никогда и нигде не «козырял» своим членством в Академии наук. Думаю, что он чувствовал бы себя очень неуютно в наши дни, когда скромность и порядочность считаются анахронизмами, а «голые короли» и их приспешники зачастую «правят бал».
В.Г. Шубин
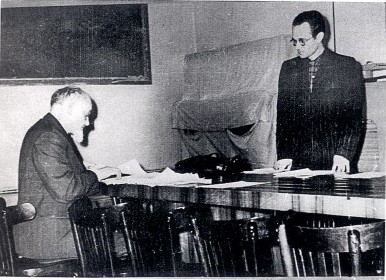
Первый год работы в Новосибирском институте органической химии. Директор чл.-корр. АН СССР Н.Н. Ворожцов и зав. лабораторией к.х.н. В.П. Мамаев. (1960 г.)

Привал после осмотра окрестностей строящегося Академгородка. (1960 г.). В.П. Мамаев, Н.Н. Ворожцов, Ю.Я. Керкис

Ученый совет НИОХ (1961 г.)

На первомайской демонстрации колонна сотрудников института (1963 г.). В.А. Коптюг, И.С. Исаев, С.Н. Загребельный, Г.В. Шишкин, И.С. Князева, Н.Н. Ворожцов, В.В. Русских, В.П. Мамаев, А.М. Юордвиршис
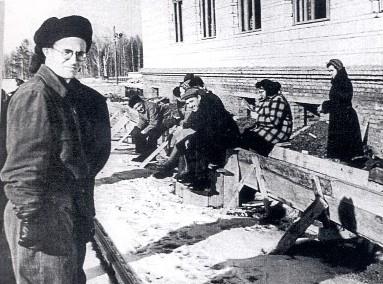
Субботник на стройке института (1961 г.)
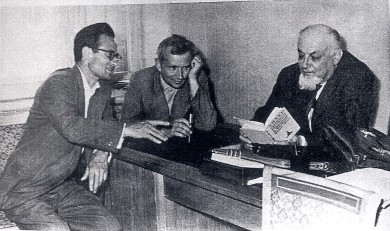
Живое обсуждение Правил судовождения по Новосибирскому водохранилищу. Н.Н. Ворожцов, В.П. Мамаев, Д.Г. Кнорре (1961 г.)


В институте всегда рядом помощники В.П. Мамаева ученый секретарь Л.К. Козачок и референт В.С. Войнова

Своя точка зрения. Директор НИОХ В.П. Мамаев и Председатель СО АН СССР академик В.А. Коптюг

Заседание Ученого совета института под руководством В.П. Мамаева (1979 г.)
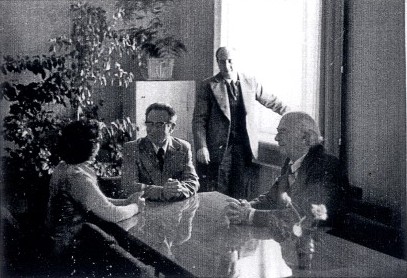
В гостях в институте Нобелевский лауреат Л. Полинг (1978 г.)
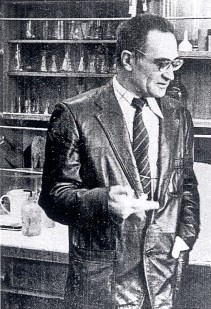
«Пиримидин! Лаборатория будет работать в этом направлении!»
В 1955 году, после окончания 3-го курса органического факультета МХТИ им. Д.И. Менделеева, наша группа была отправлена на производственную практику на коксохимический комбинат в г. Ворошиловск (Алчевск). В качестве руководителя практики с нами поехал преподаватель с кафедры органической химии - Владимир Петрович Мамаев. На наш взгляд, он был уже не очень молод, суховат и строг. Когда пришло время отчетов, наша команда по предложению, если я не ошибаюсь, Лены Яльцевой - будущей Л. Прудченко, решили взять преподавателя «на измор» путем выстраивания маршрута по технологической цепочке, по принципу многократного повторения «вниз-вверх» и затем «вверх- вниз». К нашему изумлению, в конце отчета наш «пожилой» преподаватель, который, как оказалось, был заядлым туристом, по- прежнему бодро бегал по многочисленным лестницам, а мы тащились за ним с высунутыми языками с единственной мыслью «скорей бы кончилась эта самая технологическая цепочка».
Следующий этап моего общения с Владимиром Петровичем протекал в Новосибирске, в июле 1959 года. Меня, уже сотрудницу недавно образованного Новосибирского института органической химии, наш директор Николай Николаевич Ворожцов отправил в экспедицию Ботанического сада для сбора лекарственных растений на Алтае. Во время организационного периода я жила в его квартире на ул. Державина 19, вместе с командированными в Новосибирск В.П. Мамаевым и Л.Н. Николенко. Мы ездили на трамвае купаться на Обь (где-то в районе Речного вокзала) и дружно подшучивали над Леонидом Николаевичем, который постоянно попадал в смешные ситуации. То кондукторша в трамвае отчитывала его за то, что он к ней якобы «пристает», то продавщица в магазине громко возмущалась его желанием примерить покупаемые трусы, то еще что-то в том же роде.
В начале декабря 1959 года я переехала из Москвы в Новосибирск, как говорится, «на постоянное место жительства». Николай Николаевич встретил меня на вокзале и отвез в Академгородок на выделенную мне однокомнатную квартиру в доме No 3 по ул. Обводной (всего их было к тому моменту 6). Очень скоро ко мне пришла Елена Каллиниковна Мамаева и пригласила на обед. С этих пор я частенько бывала у Мамаевых в доме No 2 и имела возможность наблюдать Владимира Петровича в семейной обстановке. Могу сказать, что никогда в своей жизни я не видела, чтобы какой-нибудь папа с таким увлечением играл с детьми, как Владимир Петрович со своим Сережей. Позднее, когда мы жили в одном дворе на Жемчужной, я неоднократно наблюдала, как он катал дворовых ребятишек по двору на своей машине, причем они набивались туда битком.
Т.Н. Герасимова
P.S. Ha этом воспоминания Татьяны Николаевны Герасимовой, записанные за день до ее внезапной кончины, обрываются. Чувствуется, что она многое хотела сказать о Владимире Петровиче как о человеке и ученом, как об организаторе и директоре Института, и только начала и подходить к этим темам. И это безусловно так. Ибо мы знаем, что Владимир Петрович очень ценил ясный ум, неженскую хватку Татьяны Николаевны, ее прямоту и преданность науке. А Татьяна Николаевна всегда отвечала взаимностью тем, кто мог оценить эти качества.
О.П. Шкурко
Так сложилась жизнь, что судьба забросила меня из Украины, в 1959 году, в Сибирь, да не просто в Сибирь, а в Академгородок. И с 1960 года я начала трудиться в НИОХе в должности Ученого секретаря.
И конечно, мне несказанно повезло, что довелось работать с интересными людьми, талантливыми химиками и организаторами науки. Это в первую очередь Н.Н. Ворожцов, В.А. Коптюг, В.П. Мамаев, Г.Г. Якобсон, Д.Г. Кнорре, В.А. Пентегова, Л.Н. Диакур, В.А. Ливанов. Теперь это уже история, далекое прошлое и наша молодость. О каждом из них можно сказать многое - о преданности своему делу, об их вкладе в науку, об участии в создании научных направлений института, 0 строительстве институтских корпусов, подборе и подготовке научных кадров, формировании крепкого научного ядра, воспитании молодежи, работе по созданию коллектива единомышленников.
А теперь о Владимире Петровиче Мамаеве. Это был одаренный, талантливый химик, человек с виду очень сдержанный и скупой на похвалу, чрезвычайно требовательный, прежде всего к себе во всем, и вместе с тем справедливый и доброжелательный. С таким 35-летним секретарем парторганизации института я встретилась впервые прежде, чем решили взять меня на работу, предложили пройти собеседование с В.П. Мамаевым. Взяли! И с этих пор началась наша, не скажу дружба, но полная гармония и понимание в работе и очень добрые человеческие отношения, которые сохранились на всю, к сожалению, очень короткую жизнь Владимира Петровича.
За внешней сдержанностью И строгостью Владимира Петровича, который вскоре стал заместителем директора, а затем и директором института, скрывался очень чувствительный, с тонким юмором человек.
Я не хочу писать о химии и институтских проблемах, это будет отражено, надеюсь, другими. А вот каким он был в семье, как он был трогательно нежен с внуками и домашними зверями это надо было видеть! Это был другой Мамаев! Мой внук, встретившись однажды с ним, поговорив о чем-то своем «мужском», потом долго вспоминал эту встречу и часто ссылался на авторитет дяди Володи. Семья В.П. Мамаева была очень дружной и гостеприимной. Его жена Елена Каллиниковна прекрасная хозяйка, стол всегда был «полной чашей», и мы очень любили ходить к ним в гости, наслаждаясь доброжелательностью и гостеприимством хозяев. Однажды в гостях, по случаю какого-то семейного торжества, я с умилением наблюдала искрящиеся от счастья глаза Владимира Петровича, по которому ползали внучата. В тот момент директора Мамаева было не узнать!
А как любил Владимира Петровича его верный, великолепный пес, кажется, Динар! Однажды мы возвращались из командировки в г. Бийск на «рафике». И когда мы поравнялись с воротами коттеджа, надо было видеть собачью радость Динара. Не зря говорят, что добрых людей любят дети и собаки.
Свой заметный след Владимир Петрович оставил не только в химии гетероциклов и пиримидина. Добрая память о нем осталась навсегда во всех делах института и в сердцах его учеников, сотрудников, коллег и друзей.
Л.К. Козачок
В далеком 1970 году мне посчастливилось познакомиться с Владимиром Петровичем Мамаевым и уже более 16 лет, как его нет с нами. Годы общения с Владимиром Петровичем, большая часть из которых прожита под одной крышей, напоминают мне добротный курс лекций: С годами забываются отдельные детали, но более четко прорисовываются основные принципы и правила. Об этих принципах Владимира Петровича я и хочу рассказать.
Научный подход нужен в любых ситуациях. Мы с Ниной Мамаевой (дочерью Владимира Петровича) учились на ФЕНе НГУ в одной группе. Во время летней сессии готовились к сдаче последнего экзамена у неё дома, благо, родители уехали по Обскому морю на своей «Казанке». Третьим с нами был её брат Сергей большой сладкоежка, он готовился к экзамену по биологии. Погода стояла жаркая, учиться не хотелось и для «подслащения» своей нелегкой доли решили мы сварить сгущенку. Налили в кастрюлю воды, поставили банку, включили плитку и забыли про неё. Вода испарилась, стальная банка не выдержала давления и взорвалась. Вся кухня оказалась покрыта брызгами сгущенки. Бросив все конспекты и учебники мы бросились ликвидировать последствия нашего эксперимента и к возвращению Владимира Петровича с Еленой Каллиниковной стены и пол были чисто вымыты. Владимир Петрович зашел на кухню, оглядел наведенную чистоту, взглянул на потолок и, показав на янтарные капли, спросил, что это такое. Мы ответили - сгущенка. Затем прозвучал второй вопрос, как она сюда попала? Получив объяснение он только покачал головой.
Пунктуальность и точность. Все дни у Владимира Петровича были четко распланированы с точностью до минуты, независимо от того, был ли это рабочий день или выходной, был ли он дома или в туристическом походе. Такой режим здорово дисциплинирует всех окружающих и без особого напряжения за день удается сделать очень много дел. Владимир Петрович практически никогда не нарушал заведенный распорядок дня за исключением чрезвычайных случаев. Так, однажды вечером около 11 часов, в это время Владимир Петрович обычно ложился спать, раздался телефонный звонок и незнакомый голос сообщил, что на трассе за Искитимом на обочине стоит один из его хороших друзей (кажется, А.Г. Хмельницкий) у его машины заглох двигатель и требуется помощь. Владимир Петрович немедленно стряхнул с себя дремоту и поехал выручать.
Как правило, запланированная работа или деловые встречи никогда не отменялись. В походах, а Владимир Петрович был обычно их руководителем, все до мелочей продумывалось заранее и никаких сбоев не было. Как показала жизнь, самовольное отклонение от намеченного маршрута могло привести к большим неприятностям. В 1985 году мы с Владимиром Петровичем и Еленой Каллиниковной путешествовали по Алтаю. Мы своей семьей на «Жигуленке» шли первым номером по горной трассе, за нами на "Ниве" шли Владимир Петрович с Еленой Каллиниковной. Дистанция и контрольное место встречи были оговорены заранее. В Чемале мы «на минутку» съехали с трассы, чтобы купить какую-то мелочевку в сельмаге. "Нива" проскочила мимо, не заметив нас, а у «Жигуленка», как на зло, взял и заглох двигатель и мы здорово отстали. Не найдя нас на контрольном месте, «Нива» развернулась и медленно тронулась обратно, разыскивая нас (или наши обломки) на склонах горной трассы. Понервничали и они, и мы основательно, но для нас это был урок на всю жизнь - если план намечен и согласован – не нарушай его.
Установленный в доме распорядок был демократичным для детей и, потом, для внуков. Им можно было ходить куда угодно, делать все что угодно, только необходимо выполнить два условия - сообщить о своих планах и вернуться строго до 11 часов вечера. В студенческие годы Нина часто бывала у нас в 4-ом общежитии и иногда приходилось провожать её домой бегом, чтобы она успела вернуться до 11-00. Заведенный распорядок прекрасно работает и в нашей семье, за тем исключением, что если сын задерживается в общежитии, то звонит по мобильнику до 11-00.
Спорт - это святое. Для химика-экспериментатора занятие спортом - это обязательное условие для эффективной научной работы. Кратко это можно сформулировать так: химик должен быть физически здоровым. Еще со студенческих лет Владимир Петрович увлекался туризмом, затем горным туризмом и регулярно каждый год на майские праздники и в августе уходил с огромным рюкзаком в горы. На моторной лодке прошел все закоулки Обского моря и впадающие в него реки, речки и речонки. Нас он приобщил к комбинированному автотуризму - это когда на машинах заезжают туда, куда позволяют дороги, разбивают лагерь и совершают радиальные маршруты ногами. В таких поездках мы многое узнали. Например, если горная речка глубиной по колено, это не значит, что ее можно пересечь вброд. А было это так, стояли мы лагерем на небольшой речонке Куба притоке Чемала. Владимир Петрович быстро перебежал на другой берег, даже не забрызгав свои походные шорты, и вернулся обратно. Мы с Ниной тоже решили сбегать на другой берег, взяв с собой сына Андрея. Построились цепочкой, взялись за руки и пошли. Воды действительно было по колено, но на середине речки сильным течением начало поднимать сначала сына, затем очередь дошла до Нины, еле-еле, но нам всё- таки удалось форсировать эту водную преграду. А глядя на Владимира Петровича, всё казалось так просто!
Зимой по воскресеньям у Владимира Петровича был традиционный утренний забег на лыжах. Зачастую ему составляла компанию Елена Каллиниковна. После забега, для сохранения водно-солевого баланса, он с удовольствием выпивал ровно один стакан холодненького пива. В нашей семье традиция семейных лыжных забегов сохранилась, но почему-то не всегда на это хватает времени.
Семья и работа. Эти две взаимодополняющие стороны жизни у Владимира Петровича имели строгую границу. Было абсолютно недопустимым использование «административного ресурса» «во благо семьи», вся взрослая часть которой была химиками. Елена Каллиниковна, Нина и я работали в Институте катализа, Сергей и его жена Наталья были биохимиками, но никакого протекционизма, даже намека на него никогда не было, скорее был обратный эффект - к нам требования были более строгие. Служебный автомобиль - только для служебных целей. Для всего остального личный автомобиль, к которому он очень трепетно относился.
Владимир Петрович любил технику, с удовольствием возился со своим автомобилем. В гараже у него все винтики, болтики, сверла и всякий другой инструмент был разложен по своим полочкам и коробочкам. Было много различных химических средств по уходу за автомобилем, растворителей, но все это было куплено в магазине и ни капли, даже ацетона, из своей лаборатории. Все автомобильные мелочи он делал сам И практически никогда не пользовался услугами институтской мастерской.
Елена Каллиниковна любила приглашать в гости близких друзей: Валентина Афанасьевича, Дмитрия Георгиевича, Владимира Аркадиевича, Геннадия Васильевича. Список очень длинный, не буду перечислять всех. Наша семья была тоже не маленькой: Елена Каллиниковна с Владимиром Петровичем, их сын Сергей с женой Наташей, с двумя дочками Олей и Катериной, их дочь Нина, двое мальчишек Сергей и Андрей, и я в общей сложности 10 человек. Это были семейные торжества и за столом сидели не академики и профессора, м.н.с.’ы и студенты со школьниками, а просто очень хорошие друзья. Вместе с тем, в официальной обстановке наши отношения были строго официальными. Например, в институте Владимир Петрович обращался ко мне только на «Вы». Точно так же он обращался ко всем нам, когда в студенческие годы Нина приглашала нас к себе домой на день рождения.
В доме у Владимира Петровича не было никаких домашних секретов. Дверь его кабинета всегда была открыта, за исключением тех лет, когда подрастающие внуки могли заползти и «прочитать» какую-нибудь диссертацию. Ложь или лицемерие были абсолютно недопустимы. У Владимира Петровича была святая традиция перед ужином выпивать 15 грамм настойки черноплодной рябины на водке в качестве аперитива и средства, понижающего кровяное давление. После того, как по указанию райкома партии в 1985 г. его назначили руководителем антиалкогольного движения, Он вынужден был прекратить эту традицию, но для нас не было никаких алкогольных запретов.
Однажды мы все-таки обманули Владимира Петровича, но это была научно обдуманная ложь во спасение. Дело было еще в наши студенческие годы. Кто-то из иностранных гостей подарил ему бутылку виски «Джони Вокер» с черной этикеткой. Мы были наслышаны об этом напитке из западных детективов. Когда провели семейную дегустацию то оказалось - изрядная гадость - виски как виски, с запахом сивухи. Почти полную бутылку убрали в бар. Вскоре после этого, пока Владимир Петрович и Елена Каллиниковна где-то путешествовали, была устроена студенческая вечеринка и эту бутылку «нечаянно» отдегустировали до конца. Что делать, пришлось бежать в ресторан Дома ученых, покупать бутылку коньяка, добавить к нему крепкой заварки до получения нужного колера. Полученную смесь залили в пустую бутылку из-под виски. Наш психологический расчет был прост и точен. Кто хотя бы один раз попробовал, второй раз пробовать не будет, а кто не пробовал, тот все равно не знает настоящего вкуса этого редкого в те годы напитка. И когда потом кто-либо из гостей дегустировал этот «виски», то говорил: коньяк-коньяком, только похуже нашего. При этом мы еле удерживались от хохота, но, в конце концов, все-таки признались в нашем грехе.
Дома мы часто обсуждали и научные вопросы. То, что касалось тематики лаборатории Владимира Петровича (каталитическое гидрирование нитропроизводных пиримидинового ряда), публиковалось с его авторством. Все остальное - без его соавторства. В середине 80-х годов, по распоряжению ЦК КПСС и Сов Мина, НИОХ и ИК СО РАН проводили совместные работы по разработке каталитического процесса синтеза ксилидина. Эту ответственную работу курировал Владимир Петрович и делал все возможное для скорейшего ее выполнения. Вместе с тем, при оформлении авторского свидетельства и написании публикаций на вопрос о его авторском участии он ответил, что его функции административные обеспечить работу подразделений и нет никаких оснований включать его в авторы. Со стороны НИОХ работали лаборатории д.х.н. В.Д. Штейнгарца И к.х.н. В.С. Кобрина, они и есть авторы работы. Меня, как молодого, только начинающего в то время путь ученого, эти разговоры многому научили...
Прошло немало лет как Владимира Петровича не стало рядом, почти угасла печаль, остались добрые, светлые и даже иногда веселые воспоминания....
В.А. Семиколенов
Поездка с Мамаевым в Стокгольм
Я работал в Новосибирском институте органической химии с 1965 года, когда В.П. Мамаев сначала был заместителем директора академика Н.Н. Ворожцова, а после того, как Николай Николаевич тяжело заболел, был избран директором. В 1965 году мне было 26 лет. Одной из главных причин моего переезда из Москвы в Новосибирск было то, что в НИОХ имелись прекрасные мастерские и корпус модельных установок мне всегда нравились «железки» и крупномасштабные наработки разных веществ, опытное производство. В московском Институте химии природных соединений, где я до Новосибирска проработал 5 лет, такие мощности тоже были, но в зачаточном состоянии.
В то время была поставлена задача наработать значительные количества транспортной РНК. Для этого требовалась жидкостная хроматография в большом масштабе в одном опыте тратилось около 100 литров буферного раствора. А насосов с производительностью несколько литров в час не было. Импорт в то время был недоступен. Нужны были другие насосы, прецизионные, коррозионно-стойкие, производительностью до 200 мл в час. В Москве насос у меня был - от шведской фирмы ЛКБ, но с собой, естественно, его мне не дали. Вот я и пропадал в мастерских, пытаясь изготовить там не по одному насосу, а по небольшой серии каждого типа, чтоб всем хватило.
В Москве мастерские целиком работали на спирте. Зарплата у рабочих была много больше, чем у младших научных сотрудников, но работать им не было никакого смысла от результатов труда оплата не зависела. Спирт был единой твердой валютой. Все знали, что спирт вреден, что люди спиваются, но традиция не менялась - за любую стекляшку или железяку нужно было платить этой валютой.
В Новосибирске было не так. У КБ и мастерских был план, включить в него изделие было непросто, но вполне возможно. Спирт, конечно, мастеровым давали, но только по дружбе, из гуманитарных соображений. Да и в лабораториях в праздники все использовали казенный спирт - это не секрет. Не говоря о туристических походах.
Николай Николаевич Ворожцов строго предупредил коллектив института тот, кто даст спирт мастеровым, будет уволен. А он был человек слова. Логика его понятна: он не хотел, чтобы стало, как в Москве, где без спирта ничего нельзя было сделать, даже кран починить.
В мастерских самым быстрым и умелым слесарем был человек- назову его Л.М., не тем будь помянут - с ним в четыре руки мы и делали насосы по моим корявым эскизам. Спирт он никогда за работу не требовал, но иногда просил для поправки здоровья. И вот однажды вечером он пришел и попросил 50 граммов для растирания спины. Спина у него и правда болела. И я ему эти 50 граммов налил не больше. Но, как выяснилось через полчаса, это был метанол. Доза смертельная.
Не буду описывать свои переживания. В конце концов все обошлось хорошо. Л.М. я догнал по дороге с работы. Метанол он, конечно, уже выпил. Отвел я его в больницу с трудом уговорил, он все убеждал меня, что ничего с ним не будет, что он свою жизнь прожил, если будет плохо про меня никому не скажет, ведь у меня еще вся жизнь впереди. В больнице Л.М. интенсивно промыли. Никаких последствий для здоровья не было. Но это определилось позже, а назавтра предстоял разбор полетов.
Сразу скажу - недели через две Николай Николаевич слово сдержал, меня уволил. Правда, через месяц принял снова весь коллектив его за меня просил, спасибо всем коллегам. Трудный был месяц, лежал я лицом к стене и думал, что в науку больше меня не примут. В последующие годы, слава Богу, спирт у меня никто никогда не просил, хотя ходить в мастерские я не прекратил.
Почему я пишу об этом в заметке про Владимира Петровича? Чтобы покаяться. Естественно, расследование проводил он как первый заместитель директора, отвечающий и за науку, и за технику безопасности, и вел его исключительно корректно. Не демонстрировал никаких эмоций - а ведь при неблагоприятном исходе все шишки упали бы на него. Я уже знал, какой порядочный и глубоко честный он был человек. До сих пор не могу себе простить, что соврал ему - сказал, что раньше в Новосибирске никогда никому спирт не давал. Трудно это выразить словами. Те, кто работал с Владимиром Петровичем, надеюсь, меня поймут - именно ему врать было очень, очень стыдно.
Потом мы долго работали вместе. Он для меня был и остается идеалом администратора в своем отношении к людям. Внешне он мог вести себя сухо, соблюдал дистанцию. Свое расписание соблюдал твердо, каждый день работал в лаборатории, и там отвлекать себя от науки не позволял. Но ни разу не было так, чтобы он меня - как и любого сотрудника Института - не принял, и всегда соблюдал время назначенной встречи. Пели (крайне редко) неожиданные вызовы не позволяли ему быть в Институте, всегда (через его помощницу Леру Войнову) приносил извинения и согласовывал другое время. Никогда не отказывался от принятия решения - а это самый большой грех управленца Сколько мы видим на самых высоких уровнях управленцев, которые годами ждут, пока проблема «сама рассосется». И я грешен, до Владимира Петровича мне далеко. А в скольких приемных губернаторов, мэров, банкиров, таможенников сегодня даже руководителю крупной организации принципиально невозможно записаться на прием к начальнику? В.П. Мамаев считал своим гражданским долгом встречаться с сотрудниками любых рангов - я вижу в этом его высокое уважение к людям, к «правам человека», о которых сегодня говорится много, но любой ничтожный чиновник безнаказанно их попирает. Интересно, что многие чиновники в этом отношении ведут себя почти одинаково и в России, и в США, и в Германии - если не давать им твердый отпор. Служение Владимира Петровича Институту - пример реальной демократии.
Я знал, что Мамаев любит ходить в походы в горы, и так» никак не обозначает свое высокое служебное положение. Но самому быть с ним в походе мне не пришлось. Зато с ним мне довелось испытать одно из самых светлых событий моей жизни. В 1979 г. в Институте - в тех самых мастерских и КБ, предусмотрительно созданных Н.Н. Ворожцовым - были сделаны первые макеты микроколоночного жидкостного хроматографа «Милихром» для шведской фирмы ЖБ, которая купила у пас лицензию на право использования патента. К сожалению, главный конструктор прибора, С.В. Кузьмин, был безнадежно невыездным. Дав «Милихрому» самую высокую оценку, шведы пригласили в Стокгольм делегацию Сибирского отделения. В ее состав были включены И.И. Гейци, Ю.М. Киселев, С.Т. Васьков, В.П. Мамаев и я. Впечатления для меня были особенно яркими, так как за железный занавес я впервые попал после тридцатилетнего перерыва. В детстве я был с родителями в Америке, но с тех пор за рубеж ни разу не ездил. В Стокгольм мы попали незадолго до Рождества. Город был прекрасен - невиданное дело, на деревьях на бульварах горели гирлянды маленьких лампочек. Тротуары, чтобы на пешеходов нс падали дождь и снег, утоплены вглубь первых этажей зданий, а на этих первых этажах - сплошь освещенные ночью витрины уже закрытых магазинов и лавочек с самыми немыслимыми товарами. Шок.
По Стокгольму мы ходили вдвоем с Владимиром Петровичем. Днем было прекрасное голубое небо, дул ветер, ослепляла белой пеной ярко голубая вода озер и заливов. Холмы, дома, на крышах которых жил Карлсон, ухоженные дети, очередь прекрасно одетых в голубые джинсы алкоголиков, ждавших открытия винной лавки. Огромный, совершенно открытый для публики дом, где люди читали в библиотеках, смотрели телевизор, играли в шахматы. Скрипач у входа в метро, который просто играл классическую мелодию и улыбался, но не просил милостыню - ни шапки, ни коробки перед ним нс было. Ничего этого без Мамаева не увидел бы. Ходок он был неутомимый, я уже с ног падал, а он все шел и шел ровным походным шагом. Спасибо.
Было много другого интересного мы летали на маленьком частном самолете в Лунд, на юг Швеции. Были на фирме, где увидели, как ни странно, и «доску почета» с фотографиями лучших рабочих, и доску «не проходите мимо», которая стыдила нерадивых - прямо как у нас дома, а мы думали, что такие доски есть только в СССР.
Вспоминается эпизод: первый вечер в гостиничном номере в Стокгольме. Аккуратная белая постель. В головах белоснежная, но очень тонкая - как книжка - подушка. Мне все ясно: русский человек на такой тонкой подушке спать не может. Подложил под подушку тренировочный костюм, полотенца, еще что-то, чтобы было повыше, уже сходил к горничной и вторую подушку себе взял. Мамаев же горничную беспокоить не хотел.
В сборнике воспоминаний, как мне думается, надо напомнить ныне живущим коллегам Владимира Петровича и рассказать незнакомым с ним читателям о том, что врезалось в память. А для меня это - его деликатность и скромность, качества, которых мне всегда недоставало.
М.А. Грачев
Четверть века рядом с В.П. Мамаевым
Оглядываясь назад и мысленно пробегая пройденный Институтом путь, невольно удивляешься тому, как удалось Н.Н. Ворожцову быстро сформировать стабильный и творческий коллектив, нащупать не только актуальную, но и стратегически выверенную научную тематику, сориентированную на животрепещущие тогда разделы органической и биоорганической химии, не утративших и теперь своего значения, прозорливо отдав приоритеты применению физических методов исследования и созданию опытного химического производства в Институте.
На взгляд многих аборигенов Академгородка, 40-летняя история нашего Института представляется размеренной и спокойной, которой не коснулись бурные события и различные коллизии хрущевского и брежневского периодов в жизни Новосибирского академгородка и некоторых институтов - не было отсечения буйных и строптивых голов, изгнания из коллектива по идеологическим мотивам. В Институте не было публичных склок -возникающие острые моменты быстро гасились в зародыше. Хотя методы их разрешения существенно разнились- у экспансивного и скорого на крутое словцо Николая Николаевича и у корректного и собранного Владимира Петровича Мамаева. Ворожцов хорошо знал и ценил сильные стороны Владимира Петровича, еще будучи научным руководителем его диссертационной работы.
Пригласив его в создаваемый Институт, сразу же поручил организовать Лабораторию синтеза физиологически активных соединений, позже переименованную в Лабораторию гетероциклических соединений. И уже вскоре Мамаев становится не только советником и правой рукой Ворожцова, но и назначается официально заместителем директора. С первых же месяцев после приезда в августе-сентябре 1959 года в Новосибирск выпускников московских, ленинградских, свердловских, томских ВУЗов и молодых завлабов, в первых химических лабораториях и во всем институте создается творческая и потрясающе дружественная атмосфера - совместные семинары, собрания, праздничные вечера и частые субботники по различным поводам. Гут у старожилов могут последовать ностальгические воспоминания о двухмесячном проживании половины молодых сотрудников обоего пола в квартире Ворожцова на ул. Державина, а части сотрудников - в магазине на первом этаже того же дома или на спортивной базе, ежедневных долгих поездках из Новосибирска на работу, долгожданном переезде в Академгородок и первой суровой зиме 59-60 гг. в новом, еще сыром общежитии на ул. Обводной (теперь Управление делами СО на ул. Терешковой), обустройство нескольких комнат в Институте гидродинамики, таскание на руках самодельных химических столов и тяг, токарного станка, вожделенного НК-10, установка железных гаражей-складов, поездки сотрудников на добывание химпосуды и многое другое. Не хватало реактивов, посуды, практически не было химической литературы, но уже существовала Лаборатория синтеза физиологически активных соединений, была одна тяга на 9 человек, тут же рядом сидел наш совсем молодой заведующий - Владимир Петрович, приехавший с семьей из Москвы, был "забойный" ручной насос Камовского, несколько новеньких швейных моторчиков и немного холодной воды в кранах, а самым главным нашим преимуществом стала возможность работать много и самозабвенно. Уже через год были выполнены и посланы в печать первые работы, проведен первый конкурс научных работ Сибирского отделения, получены первые премии. Неожиданно для нас произошла первая кадровая потеря - молодой и горячий Лева Сандахчиев решил податься в молекулярную биологию к Д.Г. Кнорре. Погоревали и смирились. В основных чертах Лаборатория сформировалась к моменту переезда в собственное здание (1962 г.) - основной костях лаборатории составляли B.Боровик, О.Родина (Загуляева), В.Кривопалов, Е.Любимова, М.Михалева, В.Седова, Г.Шишкин, О.Шкурко, в которую постепенно вливались молодые специалисты Э.Грачева, Л.Ким, C.Барам, А.Вайс, В.Лапачев, О.Петренко и др. Вместе с Владимиром Петровичем осваивали новые методы исследований, писали научные статьи и обзоры, выступали с докладами, организовывали конференции, занимались общественной работой, учились житейскому уму-разуму. Об этом времени стихи-воспоминания Владика Боровика:
Отряд из парней и девчат В Сибирскую даль заявился.
Кто бросил московский Арбат,
Кто с питерским домом простился.
Мы все приехали сюда Не за медалью и дипломом.
Нас позвала в Сибирь мечта:
Сибирь научным сделать домом.
Трудиться до ночи похвальным считалось.
Пить чай на работе? Вот вздор!...
Такое в тс дни по ТБ запрещалось –
Был против В.П. - Командор!
А в славные даты, когда кандидаты
Собой изумляли наш мир
Мы их величали, подарки вручали
А те для нас делали пир.
В любые погоды ходили в походы,
И в странствия эти водил
С искусством похвальным, во всем пунктуальный
Мамаев - завлаб и замдир.
Владимир Петрович, будучи на первый взгляд суховатым и аскетичным человеком, на самом деле всегда сохранял живой интерес к жизни института, к коллегам по работе, к старым друзьям. Перебирая старые семейные и институтские фотографии, видишь - вот Мамаев в робе на строительстве института, в колхозе па картофельном поле, вот его фотографии на лыжне, в пеших или автомобильных походах, стоящим с рюкзаком на фоне горных склонов или карабкающимся по снежному склону - и почти всегда рядом сотрудники института или его друзья, его незабвенная и преданная жена Плена Каллиниковна, дети, внуки. А сторожилы городка, вероятно, с улыбкой вспомнят молодого Владимира Петровича, с треском проносящеюся по безлюдному тогда Морскому проспекту на самодельном мотороллере.
Многие из первых сотрудников Института позже защитили диссертации, получили разные звания, стали организаторами дочерних институтов; а некоторые - нашли особое признание в Академии наук - стали ее действительными членами (сам Н.Н. Ворожцов, Д.Г. Кнорре, В.А. Коптюг, Л.С. Сандахчиев, М.А. Грачев, Ю.С. Оводов (после окончания московской аспирантуры многие годы работавший затем во Владивостоке). Результаты, полученные в Лаборатории гетероциклических соединений, позволили Владимиру Петровичу уже в 1967 году защитить докторскую диссертацию и регулярно представлять работы лаборатории почти на всех Международных гетероциклических конгрессах, Всесоюзных конференциях и Менделеевских съездах. А в знаменательном для нас 1972 году (пожар в НИОХе!) Владимир Петрович был избран член-корром АН.
Готовя себе замену, академик Н.Н. Ворожцов сделал однозначный выбор, остановившись на кандидатуре В.П. Мамаева. Став фактически руководителем Института, Владимир Петрович стал еще требовательнее к сотрудникам своей лаборатории, никогда не позволяя себе проявления особого расположения к нам: отдельные блага, посуду, приборы мы всегда получали в числе последних. При этом Он всегда был внимателен, корректен со всеми сотрудниками, избегал принимать поспешные решения, не посоветовавшись с коллегами, никогда не рубил сплеча. Любил приходящих на учебу или на работу в лабораторию молодых сотрудников, иногда даже в чем-то делая им послабления, как нам казалось. Всегда принимал живое участие в наших лабораторных застольях, институтских спортивных соревнованиях, многие годы вместе с лабораторией ездил в совхоз на уборку овощей, до конца жизни увлекался горным туризмом. И даже после того, как в 1975 году он был назначен директором, не утратил эти качества - чувствовать себя членом коллектива, не выпячиваться, быть одновременно требовательным, внимательным и справедливым. Многолетнее общение и совместная работа с Владимиром Петровичем благотворно отразилось и на характере его учеников и коллег.
О достойной деятельности В.П. Мамаева на посту директора красноречиво говорит сам факт стабильного существования научного коллектива НИОХ. Мне думается, что с кончиной Владимира Петровича в 1987 году закончился наиболее продуктивный период истории нашего института. В трудные для науки годы не стало хватать жестко-терпимого мамаевского рационализма и аскетизма, соблюдения баланса демократических и авторитарных методов управления научным коллективом. Эти начала не должны пропасть бесследно.
Все добрые традиции и научные достижения, которые закладывались в момент основания Новосибирского института органической химии и которые воспитывались в нас нашими учителями должны быть сохранены и переданы молодым, ибо будущее не может быть без прошлого.
О.П. Шкурко

После награждения орденом Дружбы народов (1985 г.)
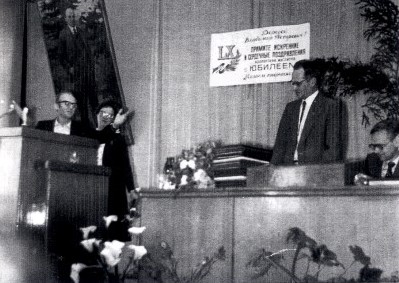
Стихотворное поздравление с 60-летием (1985 г.)

Фото на память бывших секретарей институтского партбюро. В.П. Мамаев, В.А. Пентегова, В.А. Коптюг, Н.И. Савельева, Г.И. Крисанова, Б.А. Артемов, А.С. Лапик, Г.Г. Фурин, В.А. Ралдугин (1986 г.)

Демонстрация достижений Института председателю Совмина РСФСР В.И. Воротникову. Академгородок (1985 г.)
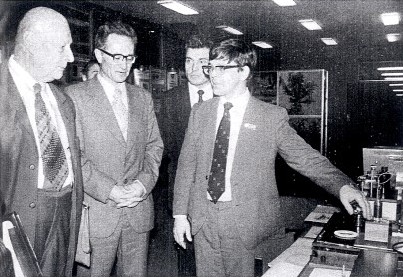
На выставке разработок Сибирского отделения АН СССР. Директор НИОХ В.П. Мамаев, зав. лабораторией М.А. Грачев и И.И. Гейци демонстрируют микроколоночный хроматограф «Милихром» Президенту АН академику А.П. Александрову (1985 г.)

Ведущие новосибирские химики на заседании Президиума СО АН СССР академик Г.К. Боресков, члены-корреспонденты К.И. Замараев, В.П. Мамаев, В.В. Болдырев и д.х.н. Н.М. Бажин (начало 80-х годов)
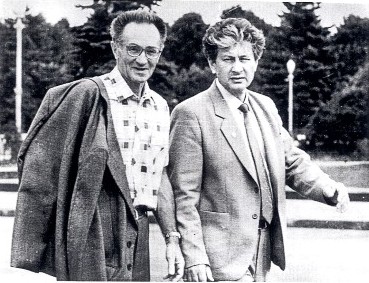
В перерыве Менделеевского съезда. Два директора химических институтов В.П. Мамаев и Г.А. Толстиков (1986 г.)

Лаборатория гетероциклических соединений, руководимая В.П. Мамаевым (1985 г.)
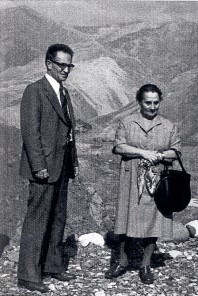
В.П. Мамаев и В.А. Пентегова. Конференция по облепихе Душанбе - Нурек (1981 г.)

ІІІ Всесоюзная конференция по химии гетероциклических соединений, Ростов-на-Дону (1983 г.)

Лаборатория гетероциклических соединений отмечает 25-летие

Новосибирские органики-гетероциклисты во главе с В.П. Мамаевым на конференции в Свердловске (1985 г.)
Одним из первых учителей в моём профессиональном становлении как химика-органика был Владимир Петрович Мамаев. Впервые я увидела его в 1954 г., когда была студенткой 3- го курса. У нас шли общие предметы, и начался большой практикум по органической химии. Я попала B группу, руководителем которой был Владимир Петрович. Помню его неизменно ровное, немного ироничное, Но всегда доброжелательное отношение к нам, студентам-неумёхам, которым всё в практике экспериментальной работы в лаборатории было вновь, которые подчас делали немало глупостей, но Владимира Петровича это не раздражало, и он терпеливо объяснял нам и учил, как надо работать. Вместе с тем, если у кого-то что-то с ходу не получалось, он, не дрогнув, требовал всё переделать и до тех пор, пока нужный результат не бывал достигнут. Он не был добреньким и не сюсюкал со студентами, но о нём с полным правом можно было сказать: «Строгий, но справедливый!». Репутация спокойного и справедливого человека способствовала тому, что в течение многих лет Владимир Петрович возглавлял комиссию от профкома МХТИ по разрешению конфликтных и спорных ситуаций сотрудников.
Мне очень нравился органический синтез, и когда я узнала, что в свободное время можно дополнительно работать на кафедре органической химии, я попросилась к Владимиру Петровичу, и он согласился руководить моей студенческой научной работой. Сейчас это обычное для студентов дело, а тогда это были только энтузиасты. После меня такими энтузиастами у Владимира Петровича были ныне доктор химических наук, профессор В.Д. Штейнгарц и академик Л.С. Сандахчиев.
Несколько раз в неделю я приходила на кафедру и осваивала азы и тонкости органического эксперимента. Владимир Петрович был отличным руководителем. Во-первых, он прекрасно знал предмет недаром читал студентам лекции по органической химии, вёл практические занятия и семинары. Во-вторых, у него были замечательные руки экспериментатора, которые всё умели и могли. Бывало, я отчаянно бьюсь над какой-то установкой или реакцией, а он придёт, что-то подправит, сделает - и вот уже всё работает и всё получается. Я сделала свою дипломную работу под его руководством, он главный автор в моей первой печатной статье.
Владимир Петрович любил эксперимент. Помню, мне нужен был пятисернистый фосфор для дальнейших реакций и делать его надо было самой. Для этого требовалось «спечь» при очень высокой температуре серу и красный фосфор. Честно говоря, я очень сильно побаивалась этой «бомбы». Тогда за дело Владимир Петрович взялся сам. Ом притащил из дома цветочный горшок, мы набили его нужной смесью, выбрали время, когда в большой лаборатории и на кафедре почти никого не было, и Владимир Петрович быстро бросил в горшок зажжённую спичку. Пулей он выскочил за дверь, у которой стояла я, и мы стали ждать, что будет дальше. Через некоторое время раздалось какое-то шипение, которое всё усиливалось, и я с ужасом подумала: «Ну всё, сейчас рванёт!». Слава богу, ничего страшного не случилось. Масса пошипела и успокоилась, реакция прошла хорошо. Владимир 11етрович с удовольствием разбил горшок, чтобы достать спёкшийся продукт, и спокойно произнёс: « Я же сказал, чего бояться, всё будет нормально!».
Владимир Петрович не только любил органическую химию и умел хорошо работать руками. Он увлекался и многими другими вещами. Например, одним из его излюбленных хобби был горный туризм. Когда я появилась на кафедре, он уже был инструктором по туризму и каждое лето водил группы в горы на Кавказ. Его увлекательные рассказы об этих путешествиях так вдохновили меня, что я тоже со своими друзьями стала ходить в горные походы и поняла, как это прекрасно. Уже здесь, в Новосибирске, мне довелось несколько раз быть в тургруппе Владимира Петровича, и я ещё раз убедилась, что и здесь, как и в других сферах его деятельности, господствовали рационализм, чёткость в постановке и решении задачи, основательная продуманность всех действий. В походах он был не таким сухим и закрытым, как на работе. Любил хорошую шутку, песни у костра. В московский период его жизни, кроме гор, ему нравилось кататься на лыжах, ходить в байдарочные походы. Тогда, в пятидесятые, байдарки только появились и становились жутко популярными. Менделеевские энтузиасты байдарочного дела организовывали небольшие путешествия по подмосковным водохранилищам и речкам, в некоторых из которых и мне довелось участвовать вместе с Владимиром Петровичем, и это послужило началом моих последующих многочисленных байдарочных походов. Лыжи я тоже полюбила с той поры и не перестаю на них кататься до сих пор.
В 1959 г. Владимир Петрович уехал с Н.Н. Ворожцовым в Академгородок, но судьбе было угодно, чтобы вскорости и я оказалась в Новосибирске. Мы вновь встретились уже в Новосибирском институте органической химии. Мы были в разных лабораториях, но некоторое время наше научное сотрудничество продолжалось, а потом много лет мы с Владимиром Петровичем работали в специализированном совете института по защитам диссертаций- он, как его председатель, а я. как ученый секретарь. Кроме того, нам приходилось общаться и по производственным вопросам, когда он стал директором института, а я замещала своего зав. лабораторией Г.Г. Якобсона в периоды его отсутствия. И всё это время я по-прежнему продолжала чему-то учиться у Владимира Петровича. Этот человек, сам того не зная, многое определил в моей жизни. Прошло уже почти двадцать лет, как его нет с нами, но безмерное уважение к нему и светлая о нем память останутся во мне навсегда.
Т.Д. Петрова
«Сентябрь 1959 года. Москва. МХТИ. Первая встреча с В. П Мамаевым, в лабораторию к которому в Новосибирском институте органической химии я была зачислена после окончания МГУ. От него сразу получила «научное задание»: пока я ненадолго оставалась в Москве, поработать в библиотеке, посмотреть литературу по химии индола Что я и сделала, проводя многие часы в Научно-технической библиотеке на Волхонке. Много позже я поняла, что это было начало «воспитания делом» Владимир Петрович поговорил со мной так, что обычный просмотр научной литературы вылился в ощущение, что я выполняю важное и ответственное задание» (Из ранних воспоминаний М. Михалевой).
Мы поработали с Владимиром Петровичем около тридцати лет, были в числе первых сотрудников лаборатории. Он всегда умел настраивать на работу, создавать в лаборатории творческую атмосферу и поддерживать интерес к делу, энтузиазм даже в тех случаях, когда у молодых сотрудников накапливалась усталость от неудач, отрицательных результатов, неизбежных при научных исследованиях.
Все в лаборатории работали много, увлеченно, с полной отдачей сил, несмотря на трудности организационного периода. Регулярные научные семинары лаборатории были для нас школой общения, дискуссий, обмена мнениями и идеями.
Закладывая и развивая лабораторию, Владимир Петрович тонко чувствовал новые перспективные направления, умело сочетал фундаментальные исследования по химии гетероциклов с прикладными работами. Интенсивно изучалась связь между структурой и свойствами производных пиримидина, влиянием атома азота в гетероцикле на реакционную способность соединений, передачу эффектов заместителей, таутомерные превращения, роль внутримолекулярной водородной связи на свойства производных азинов и др. Одновременно осуществлялся поиск возможностей практического применения соединений при научном сотрудничестве со специалистами других организаций, что позволило создать высокоэффективные лекарственные препараты (пиказид, силур), новые термостойкие полимеры с уникальными свойствами, светочувствительные материалы, практически интересные жидкие кристаллы пиримидинового ряда и др.
В течение 12 лет (1975 - 1987 гг.), будучи директором НИОХ, В.П. Мамаев успешно совмещал руководство Институтом и лабораторией, оставаясь терпимым, мудрым и благожелательным членом созданного им коллектива. Лаборатория часто собиралась вместе по праздникам и юбилеям, памятным событиям лабораторной жизни. Мы поздравляли друг друга в шуточных посланиях, отражавших тем не менее серьезные перипетии нашей трудовой деятельности. Вот. например, «Марш 1-етероциклистов»:
Мы - гетероциклисты, нас знает полстраны,
Мы замыкаем циклы, а циклы всем нужны.
Хотя вся наша сила не сразу всем видна,
Наш нюх как у собаки, а глаз - как у орла!
Владимир Петрович любил бывать на таких «собраниях», ценил прелесть неформального общения и искренне радовался, глядя на коллективное веселье:
Судьба искушала нас этак и так.
Но мы оставались едины,
Мы были как сжатый и крепкий кулак.
Спасибо всем нам и Азинам!
Его внутренняя организованность и склонность к порядку иногда проявлялась с неожиданной стороны. Например, он не мог пройти мимо неполадок на лабораторном столе молодого сотрудника и с притворным вздохом «Ох, уж эти универсанты!» сам принимался смазывать скрипящий моторчик, налаживать мешалку или укреплять расхлябанную электрическую вилку.
Владимир Петрович был увлеченным химиком, любил экспериментальный процесс, скучал без этой работы, когда его многочисленные директорские обязанности нс позволяли больше встать к химическому столу. Однако по-прежнему стремился воспитать своих молодых сотрудников в любви и уважении к химическому эксперименту-, привить им терпение в достижении поставленной цели. Он поддерживал, направлял, вдохновлял всех нас, давая почувствовал» радость самостоятельного творчества.
Преданность науке не ограничивала его жизненный кругозор - Владимир Петрович умел активно отдыхать с друзьями-единомышленниками. На машине и пешком он побывал в самых разных уголках страны - Алтай, Саяны, Дальний Восток, Кавказ, Тянь-Шань, Памир! Как заядлый турист он начинал еще с зимы готовиться к своим любимым майским походам, возвращаясь из которых неизменно привозил букеты цветов: с Алтая - багульник, из Средней Азии - розы для всех сотрудников лаборатории.
Вот уже много лет, как нет с нами Владимира Петровича Мамаева. Но не меркнет память о нем, что и выразил в своем четверостишии сотрудник лаборатории с 1961 года Владислав Боровик:
Не стерлась память и с годами,
Хотя виски засыпал снег.
Вас нет, а кажется - Вы с нами,
Учитель, Шеф и Человек.
М. А. Михалева, В. Ф. Седова
Из воспоминаний студентки первого набора НГУ
Я встретилась впервые с Владимиром Петровичем Мамаевым о 1962 г., когда на ФЕНе НГУ началось чтение курса “Органическая химия”. Владимир Петрович быстро завоевал у студентов репутацию преподавателя строгого, но справедливого. После третьего курса в НГУ традиционно проходит распределение студентов на практику по институтам. «Органика» в тот далекий период котировалась выше всех химических институтов, и туда попадали студенты с лучшими баллами. Я оказалась там только в 1963 г., и выбрала Лабораторию физиологически активных веществ (это первое название лаборатории В.П. Мамаева).
Моим первым “шефом” был О. Шкурко, но я проработала с ним только весну и лето. Когда после каникул я пришла в институт, Олег велел мне идти в соседнюю (223) комнату-кабинет Владимира Петровича. Там уже работала другая студентка НГУ – Мила Круглова (Диканская). Несмотря на занятость Мамаева, мы никогда не ощущали недостатка внимания с его стороны, общались мы также и с другими сотрудниками лаборатории. Тогда ото был поистине “звездный” состав, включающий в основном выпускников московских ВУЗов: Олег Шкурко, Оля Загуляева, Гена Шишкин, Валя Седова. Маша Михалева, Лена Любимова, Владик Боровик и другие. Нам рассказывали, что ведущие сотрудники лаборатории Д.Г. Кнорре (кстати, располагавшейся строго напротив нашей). Лева Сандахчиев и Саша Гершович тоже “произошли” из лаборатории- В.П. Мамаева. Отношения в этом коллективе, как впрочем и во всем НИОХе, тогда были очень дружескими. Я считала «Органику» лучшим местом в мире, а Владимир Петрович самым замечательным “шефом”. Не помню, чтобы он ругал нас с Милой Кругловой, но часто, особенно после каникул, говорил: “Начинайте думать”.
Моей первой (и последней) синтетической работой в лаборатории было получение амида у-метил масляной кислоты (потенциального кардиопротектора). Амид я получала через нитрил, а для введения циан-группы использовала цианистый калий. Мила, с которой мы делили один химический стол, была очень недовольна опасным соседством, и постоянно делала мне какие-нибудь замечания, но шепотом, поскольку Владимир Петрович был в комнате. Я в ответ корчила страшные рожи и тихо хихикала. По он быстро это прекратил, неожиданно повернувшись (он сидел к нам спиной). Он сказал: “Таня, прекратите гримасничать, а Вы, Мила, оставьте се в покое, никакой опасности для Вашего здоровья этот синтез не представляет”. И прочел нам короткую, но очень информативную лекцию о свойствах различных ядов, и о том, чего именно надо, и чего не надо опасаться при работе с ними. Мы с Милой долго потом гадали, как он у себя за спиной мог углядеть нашу тихую перепалку. Только много времени спустя мы догадались, что он все время следил за нашими действиями с помощью маленького зеркальца, закрепленною на большой резиновой пробке. Этот, казалось бы мелкий факт, очень точно отражает одну из основных черт Владимира Петровича, а именно, его уникальную тактичность. Он, видимо, не хотел оставлять нас без присмотра, но, одновременно, не хотел обижать недоверием, и стеснять прямым наблюдением.
Еще запомнилось мне его какое-то особенное уважение к нам, студентам. К нему часто заходили поговорить академик Н.Н. Ворожцов (первый директор НИОХ), завлабы В.А. Коптюг, Д.Г. Кнорре и др. "сильные мира того" люди. И всегда Владимир Петрович старался хоть на несколько минуток вовлечь нас в общий разговор. В итоге, я до сих пор помню, как Н.Н. Ворожцов учил меня держать колбы, а В.А. Коптюг сравнивал студентов различных ВУЗов, указывая на особенный снобизм, характерный для воспитанников НГУ.
Позже я старалась перенять стиль руководства Мамаева, работая со своими студентами и аспирантами, но не думаю, что сильно преуспела в этом. Хотя по сравнению с принятым в школе акад. В.В. Воеводского стилем, который можно аппроксимировать слоганом “кидай щепка в воду, пусть учится плавать”, мои методы воспитания, надеюсь, все же немного облегчали молодежи вхождение в науку. Еще хочется отметить четкие этические нормы рабочих взаимоотношений, которым неуклонно следовал В.И. Мамаев, и которые стали для меня законом на всю жизнь. Важным принципом в его лаборатории был следующий: планируя эксперимент, всегда помни о товарищах но работе, всегда имей в достаточном количестве чистую посуду, чтобы не сорвать эксперимент соседа, забрав у неге специально высушенную колбу... Делай четкие надписи на всех банках с реактивами, включая слив, чтобы кто-нибудь не испортил синтез из-за несоответствующей действительности надписи на банке с реактивом. Он считал совершенно недопустимым и непростительным использование в “ненаучных, бытовых" целях, хоть капли лабораторного реактива, и, конечно, спирта. Научная лаборатория, по Мамаеву, это, как церковь, место святое.
Одной из основных черт характера Владимира Петровича была доброта, открытых проявлений которой он, впрочем, сам стеснялся. Отсюда происходила его кажущаяся сухость. Он любил повторять, что он бюрократ, но меня эти слова никогда не обманывали. Он действительно любил и ценил порядок во всем, но основных черт бюрократа - равнодушия к людям и чванства - он был лишен полностью. За все годы общения не припомню ни одного случая, когда бы Владимир Петрович остался безучастен по отношению к моим проблемам, даже когда я уже не была его сотрудницей.
Наши с В.П. Мамаевым дороги в науке, к сожалению, довольно быстро разошлись, сразу после моей зашиты кандидатской диссертации. Он сам направил меня в область физической химии, сказав, что там мой потенциал раскроется полнее. Мила еще раньше, по состоянию здоровья, ушла работать в НГУ. В лабораторию пришло следующее поколение студентов, и вскоре она изменила название, как говорится, новые песни придумала жизнь... Но все же, мы были первыми, и нам есть что вспомнить.
Мое, в дальнейшем уже только неформальное, общение с В.П. Мамаевым и его лабораторией не прерывалось практически никогда, вплоть до его неожиданной для всех кончины. Я приходила на лабораторные праздники, старалась не пропускать и институтские юбилеи, выступала оппонентом на защитах...
Институт органической химии я еще долю продолжала считать своим домом, в который надеялась когда-нибудь вернуться, как это предсказывал мне при расставании Владимир Петрович. Он полагал, что я должна помочь своему другому учителю - академику Ю.Н. Молину «сделать» магнитные эффекты, и мой долг перед ИХКиГ будет выполнен. Но жизнь рассудила иначе... Последние обращенные ко мне слова Владимира Петровича я слышала на его юбилее, когда мы с Ю.Н. Молимым вручали ему адрес и цветы от Института химической кинетики. Стоя на сцене, он произнес тихо и характерным для наших бесед тоном ласкового упрека: “Редко заходите, Таня, мачо мы видимся.'' После его ухода из жизни эти слова стали для меня вечным укором. Хочется, конечно, надеяться, что он все видит сейчас и знает, что является для меня, как и для многих других, я думаю, примером учителя и ученого.
Т.В. Лешина
Осенью 1963 г. после окончания учебы в Томском политехническом институте я приехал в Академгородок для сдачи экзаменов в аспирантуру Новосибирской) института органической химии СО АН СССР. В экзаменационную комиссию входили В.А. Коптюг, В.П. Мамаев. Г.Г. Якобсон.
Экзамен показал, что мои знания очень далеки от современных требований и оценка «удовлетворительно» этот печальный для меня факт удостоверила. Тем не менее, Владимир 11етрович что-то во мне увидел и согласился взять меня аспирантом. Так круто изменилась моя судьба и вместо Новосибирского завода медпрепаратов я оказался в храме науки.
Что запомнилось о Владимире Петровиче? Необычайно скромный, немногословный. аккуратно-дисциплинированный, работоспособный, вежливо-уважительный, тактичный, терпеливый наставник. Таким запечатлелся он в моей памяти. Конечно, мне пришлось догонять своих коллег по лаборатории и самообразование надолго стало моей необходимостью и потребностью. Но рука и разум мудрого наставника вроде бы и незаметно вели меня в нужном направлении: физические методы исследований, квантовая химия, лекционный курс В.А. Коптюга в ИГУ, английский и немецкие языки, работа с химической литературой, преподавательская практика в физ-мат. школе при НГУ и многое друге. Все это потом мне пригодилось, за все добрым словом вспоминаю до сих пор своего Учителя. А были еще совместные походы субботне-воскресного дня по окрестностям Новосибирска, дальние походы на Алтай.
Мне повезло, что был в моей жизни мудрый наставник, который приучил меня к самостоятельности, заботился и помогал, в том числе в бытовых вопросах. Таким он был. Спасибо Вам, Владимир Петрович, что встретились на моем жизненном пути.
А.М. Ким
Мне всегда очень везло на учителей. И вот сейчас я хочу немного рассказать об одном из них - Владимире Петровиче Мамаеве. Первая встреч.1 моя с Владимиром Петровичем состоялась I сентября 1968 года, когда я, будучи студенткой 4 курса ФЕН'а НГУ, пришла в Институт органической химии для прохождения преддипломной практики. В ночь с 31 августа на 1 сентября наш студенческий отряд вернулся из Чехословакии. Утром очень хотелось спать после бессонной ночи, но я пошла в институт, так как С.Л. Амитина, ответственная за прохождение практики студентами НГУ в НИОХ’е, сказала, что заведующий Лабораторией гетероциклических соединений очень требовательный, серьезный и любящий дисциплину человек.
И вот я в комнате 223, где в то время находился кабинет Владимира Петровича. Я увидела очень элегантного, подтянутою и чрезвычайно серьезного, даже несколько сурового, как мне тогда показалось, человека. После знакомства Владимир Петрович рассказал о лаборатории и в общих чертах о том, чем мне предстояло заниматься, и сказав, что сейчас познакомит меня с “микрошефом”, вышел из комнаты. Так состоялось мое знакомство с моим Учителем.
В Лаборатории гетероциклических соединении я проработала в целом, считая студенческую практику 22 года, из них 18 лет мне посчастливилось работать рядом с Владимиром Петровичем. Первое впечатление о суровости этого человека исчезло и в моей памяти он - умный, очень требовательный к себе и другим, надежный, порядочный, чрезвычайно интересный человек. Он настолько располагал к себе, что в особенно ответственные моменты непременно хотелось знать его мнение.
Мне предложили вести спецкурс по органическому синтезу в ФМШ. Прежде чем согласиться, я посоветовалась с Владимиром Петровичем. Он мне сказал, что считает работу с ребятами очень нужной и полезной, особенно для привлечения их в институт, но заметил, что это ни в коем случае не должно быть в ущерб моей основной работе и данный спецкурс в ФМШ должен проходить во внерабочее время. И вот с его благословения я работаю в ФМШ до сих пор, где в настоящее время возглавляю кафедру химии.
Другой пример связан с моей партийной деятельностью. Так уж сложилось, что я постоянно занималась и занимаюсь общественной работой. И вот я, секретарь комсомольской организации Института органической химии, начала задумываться о своем вступлении в Коммунистическую партию Советского Союза. Я непременно хотела, чтобы одним из рекомендующих был именно Владимир Петрович, потому что он был для меня образцом коммуниста, честным, требовательным, деятельным. Поймав его в институтском коридоре, я спросила его, может ли он дать мне рекомендацию. 11а что он сказал, что это мимоходом не делается и нам надо серьезно поговорить, и назначил разговор на следующий день. Когда я пришла назавтра в его кабинет, мы обстоятельно поговорили о моей семье, о том. чем обусловлено мое желание вступить в партию. Он рассказал о большой ответственности, которая ляжет на меня, как на коммуниста. Затем сказал, что даст мне рекомендацию. Вполне определенно могу сказать, что я его доверие оправдала и никогда не меняла и не изменю своих убеждений, которые сформировались под влиянием моих учителей, одним из которых являлся Мамаев Владимир Петрович.
Для меня всегда было важно, как оценит мою работу мой Учитель. Например, на защите кандидатской диссертации я с большим волнением ожидала выступления не официальных оппонентов, а своего руководителя Владимира Петровича Мамаева.
Помню, как сейчас, наш последний разговор с Владимиром Петровичем. Он собирался в Москву на операцию. Перед этим он со всеми сотрудниками своей лаборатории разговаривал о текущей работе, результатах, планах. Он зашел к нам в 221 комнату. Мы немного поговорили о работе научной, партийной (в то время я была секретарем партийной организации института). Я спросила его, можно ли будет ему позвонить в Москву, если вдруг-непременно будет необходим его совет. Он ответил, что, конечно же, можно и дал номер телефона, по которому следовало звонить. Я запомнила на всю жизнь его глаза и улыбку в тот момент. После печального известия из Москвы мне почему-то все это вспомнилось и подумалось, что Владимир Петрович предчувствовал, что данная поездка будет последней, и прощался с нами навсегда. Но такие люди бесследно не уходят из жизни, и я чрезвычайно благодарна судьбе, что я работала в Лаборатории гетероциклических соединений, руководителем которой был такой прекрасный Человек, большой Ученый - Владимир Петрович Мамаев.
С. Г. Барам
Баллада о Владимире Петровиче Мамаеве
Когда пас вопросом встречали:
Ты чей и чем славен твой край?
Мы гордо в тс дни отвечали:
У нас -заправляем Мамай!
Вы были еще не маститы –
Очки да взлохмаченный чуб,
Но, как и теперь, деловиты
И с той же усмешкой у губ.
И к Вам из родимого дома
Явилась ватага ребят,
Они навсегда из альбома
На Вас, как на пану, глядят.
И каждый в Сибирь заявился.
Не требуя благ и наград.
Хоть с Питером кто-то простился
Иль бросил московский Арбат.
Мы были полны романтизма
И пылки по младости лет,
В Вас было немало пуризма,
Но был и романтика след.
Вы с нами в походы ходили
Весною и летней порой.
Зимою лыжней бороздили
Снега за Зырянкой - рекой.
От нас в ГТО не отстали.
Значок получив золотой.
В СОАН’е нашелся б едва ли
Подобный замдир боевой.
А ныне Мамаев - директор,
Член-корр. и редакции член,
Член ДОТ'а, каких-то инспекций
И прочих начальственных стен.
Но так же - в горах его сердце.
На долгой туристской тропе.
Где не было больше умельца
Уставших взбодрить, чем В.П.
Известен был случай в походе:
Парнишка, по виду - амбал,
Чуть трудно - он тут же на взводе.
Раскиснет, почти что рыдал.
Участники были в печали.
Считали - походу конец.
Но мастерски дело поправил
Владимир Петрович - отец.
А чем ублажил бедолагу
Начальник - то тайна сия.
Но парень - как принял присягу –
Понес и рюкзак, и себя!
И я, хоть адепт атеизма.
Поверил с тех пор и сполна,
Что шефу - присуща харизма,
Которая свыше дана.
А случай тот... Нет, не из сказки.
Я сам той тропою шагал...
А, если плеснете из фляжки.
Я много б еще рассказал.
В.П. Боровик
В.П. Мамаеву туристу и альпинисту
Вам - 45... Какая дата!
Да, справедлив народный глас,
Что прожитое не утрата,
А только прочности запас.
В годах, как Ваши, нету донца.
Они - расцвет для марафонца.
Они, вообще пора для спорта,
А не для Крымского курорта.
И в 45 - совсем недурно
Еще залезть на Аннапурну!
Усталость? Вам ли эти речи?
Да эти годы жизни смак!
Но, если что- рюкзак за плечи
И на Алтай! И только так!
Там самый лучший отдых в мире!
Белуха там и Кучерла.
Маршрутом сложности 4-е
Пройдете вот и все дела!
И снова будут звать вершины,
И крик победный рваться с губ.
Сдаваться небу нет причины,
Коль руки держат ледоруб!
Вам - 45? Так это ж дело!
И как старайся, не гляди,
Пора отбоя не приспела,
И все вершины впереди!
В.П. Боровик

Надежный тыл семьи Мамаевых в руках Елены Каллиниковны
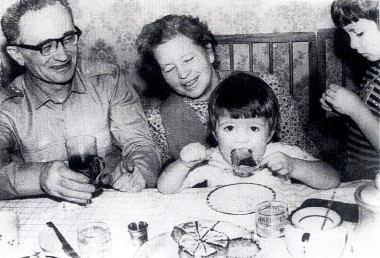
Подрастают внуки Андрей и Сережа Семиколеновы
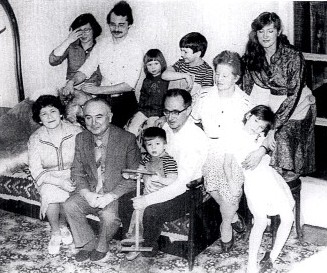
Семья Мамаевых в сборе. В первом ряду: Катя, Елена Каллиниковна и Владимир Петрович Мамаевы, Сережа Семиколенов и друзья семьи Е.Е. и И.Ш. Корсунские. Во втором ряду: Наталья Васильевна Мамаева, Андрей Семиколенов, Лена и Сергей Владимирович Мамаевы, Нина Владимировна Семиколенова.

С друзьями за праздничным столом

Домашний любимец
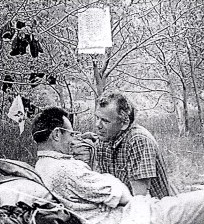
В горах вспоминаются былые туристические походы. В.П. Мамаев и Р.А. Буянов

Горы не отпускают...
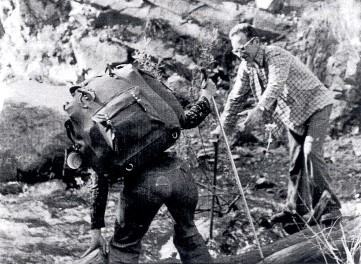
Всегда готов подать руку помощи. Спуск с Шавреза (1978 г.)

Приятно завершить чаепитием горный поход. Средняя Азия (1976 г.)

На горном перевале в Фанских горах туристы-органики (1972 г.)

Здесь был Мамаев
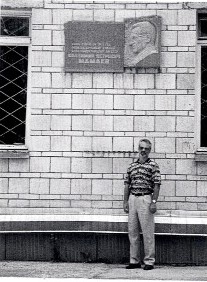
Памятная доска на здании Новосибирского института органической химии. Рядом сын С.В. Мамаев

У памятников Владимиру Петровичу и Елене Каллиниковне в Новосибирском академгородке их дочь Н.В. Семиколенова и зам. директора НИОХ М.М. Митасов
(к 75-летию со дня рождения)
Не стерлась память и с годами,
Хотя виски засыпал снег.
Вас нет. А кажется Вы с нами,
Учитель, Шеф и Человек.
И хочется спросить совета,
И рассказать, как мы живем.
Но связи нет с той частью света,
Вы - в измерении ином.
Веленья рока не отринуть,
Лишь остается горький вздох:
Вы поспешили нас покинуть
На переломе двух эпох.
И все без Вас, увы отныне...
И неудачи, и успех,
Походы в горы, лыжи в зимы,
Что были Вами так любимы
В не длинном перечне утех.
И Вам уже на перевалы
Из-под ладони не глядеть,
И у костра под звон гитары
Не слушать песни и не петь.
И чай не пить уже из кружки,
Дневник походный не писать.
И предсказаниям кукушки
Про годы жизни не внимать.
В.П. Боровик
товарищ по туристским походам
Кроме химии пиримидинов, у В.П. Мамаева была еще одна многолетняя страсть туризм. Начал он заниматься туризмом во время учебы в Менделеевском институте, где его постоянными спутниками в походах были работающие сейчас в Сибирском отделении РАН академик Д.Г. Кнорре и член-корр. Р.А. Буянов. Мне, с 1962 по 1986 гг., довелось проделать вместе с В.П. Мамаевым 23 больших похода: 16 горных и горно-таежных, 4 водных и 3 автомобильных. Кроме того, в 60-70-х годах зимой, мы почти каждое воскресенье ходили на лыжах B компании сотрудников института. С 1974 по 1985 гг., летом, тремя семьями (вместе с Шишкиными), проводили выходные и часть отпуска на Обском море и верхней Оби, передвигаясь на моторных лодках. И в этих походах я видел другого Мамаева, чем в институте, за столом директора или в конференц-зале. Об этом человеке мне и хотелось бы рассказать.
Мамаев- горный турист
Мамаев очень любил горный туризм. Из всей нашей постоянной туристской компании он был самым опытным (разряд по альпинизму и работа инструктором в горно-туристическом лагере АН на Кавказе), лучше всех владел альпинистской техникой, но руководителем ходить не любил. Его любимый лозунг в походе: <<Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом!».
Итак, Владимир Петрович как рядовой член горно- туристической группы.
Подтянут, собран, в одежде ничего лишнего. Очень аккуратен, штормовка выгоревшая до белизны, по-моему, еще 50-х годов. Другой я у него никогда не видел. Рюкзак всегда самый легкий по сравнению с рюкзаками у других мужчин группы, на какой бы срок не шли и сколько бы не несли продуктов и общественного груза. Это за счет жестокого сокращения личных вещей, тщательно отбиравшихся и взвешивавшихся перед выходом. Оставляется только абсолютно необходимое и самое легкое. Такого тонкого свитера, как у Мамаева, я ни у кого не видел. Вечерний привал, холодает. В.П. говорит: «Надо утеплиться!» ... и надевает тонкую маечку-безрукавку. Фотоаппарат никогда не носил лишний груз. При выходе с любого привала рюкзак у В.П. всегда собран первым. Мы еще возимся, а он уже сидит на готовом рюкзаке. И это независимо от того, какой груз несет (попробуй быстро упаковать ведра или палатку!) и дежурит он или нет.
Не любит ходить впереди (кроме случаев руководства группой, где положение обязывает). Но на технически сложных участках, особенно на крутых спусках по курумнику или морене, он, будучи самым старшим из нас, оставляет всех далеко позади. В то же время, никогда не настаивает на выборе трудных маршрутов или усложненных вариантов. Может быть, это потому, что он уверен пройдет везде, какой бы маршрут мы не избрали. Карту рассматривать на маршруте не любит, оставляя эту заботу руководителю группы. Я слышал, как он поучал начинающих: «Руководитель это сила! Скажет, сейчас ложись на снег или иди в воду - сразу ложись и иди, не раздумывая!». Не любит ходить в разведку (видимо, полагая, что желающие всегда найдутся). Дежурный он образцовый костер, дрова и ведра в любую погоду и в любой ситуации в порядке. Но варить не любит (так и не знаю, умел ли). Его изречения: «Моя функция кухонный мужик», «Мясо надо подавать большим куском!». (Стоит заметить, что у Мамаева было серьезное заболевание, требующее регулярного приема лекарств, но он справлялся с этим сам, не требуя внимания врача и товарищей. Единственная льгота отдельная порция несладкой каши).
Вечером, на привале, Владимир Петрович любил попить крепкого чая, никогда не отказывался от согревающих 100 грамм, но категорически не участвовал в политических разговорах и спорах. Как только они начинались, В.П. смотрел на часы и говорил: «О, уже поздно, я пошел спать!». Политика партии и правительства для него было делом святым и не обсуждаемым. Также в походах он никогда не обсуждал производственные вопросы. Иногда сотрудники НИОХ, плохо знавшие В.П., намекали мне в сложных ситуациях: «Вы же постоянно отдыхаете с Мамаевым. Попросите (или выясните) то-то!». Наивные люди! Помню, в 1971 г. в Фанских горах, мы, после неудачного штурма перевала, остановились на незапланированную дневку. Разгорелся спор о руководящей роли рабочего класса как «гегемона», в стране и в нашем институте, в частности. Обрадовавшись неожиданному отдыху, спорили целый день. В.А. Бархаш, будучи дежурным, подсчитал, что он вскипятил и подал спорщикам 14 ведер чаю. Один Мамаев не проронил ни слова, как мы не пытались его разговорить. Еще пример. 1986 год, группа в ресторане в Душанбе отмечает окончание похода на Шеркентский барьер (последний поход В.П.). Свежая зелень, шашлык и местное шампанское! Обсуждение объявленной политики трезвости. Мамаев молча пьет минеральную воду и в обсуждении не участвует. Той весной постановлением Советского райкома он был назначен руководителем Общества трезвости в районе.
Мамаев руководитель туристской группы.
Подготавливать карты и описание района не любил (обычно поручал мне). Но с маршрутом знакомился детально. Сокращал общественный груз до минимума. «Основная веревка? Зачем? Обойдемся репшнуром!» Избегал запутанных и сложных маршрутов, на технически сложных участках находил простейшие варианты прохода. В разведку в исключительных случаях ходил сам, но большей частью ухитрялся обойтись без неё. Не боялся принять решение, изменяющее маршрут в сложной ситуации. Так, в 1965 г. возглавляя поход в Центральные Саяны, отменил первоначально намечавшееся прохождение реки Агул на плотах, как непосильное для группы, заменив его прохождением реки Уда от Нижнеудинска до станции «Лена» На плоскодонках. Первоначально это вызвало недовольство группы, но дело показало, что В.П. был прав. Группа, вышедшая с Агульского озера на плотах за день до нас, потерпела тяжелую аварию. Мы же прекрасно прошли порожистую Уду, причем Мамаев шел на лодке рулевым. Я первый и единственный раз проходил пороги в качестве гребца и в роли рулевого представить себя не могу. В Нижнеудинске В.П. дешево купил две рассохшихся лодки и послал меня добывать для них смолу. Когда я растерянно спросил: «А где найти её здесь, в незнакомом городе?», он ответил мне таким тоном, как когда-то старшина в армии: «Без просмолки мы не спустим лодки на воду. Найдите!». И к своему изумлению, я через два часа принес смолу, раздобыв её путем несанкционированного проникновения на территорию какой-то рембазы. Но В.П. так и не спросил у меня, откуда я её взял.
В водно-моторных походах по Оби и в автомобильных на Алтай Мамаев был несомненным лидером. Здесь у него был наибольший опыт. Моторы у него всегда работали как часы, всегда шел первым и определял режим движения. Страшно не любил, чтобы кто-нибудь его обгонял. Когда я купил «Вихрь-30», он, имея вполне исправный «25-й», тоже купил тридцатку. Очень любил посидеть с удочкой, торжественно её готовил, но ловил мало, и огорчался, когда другим рядом везло. В 1980 г, на реке Кумир, В.П. долго разъяснял моему младшему сыну, как ловить хариуса на мушку. И вдруг сын вытащил здоровенного хариуса, а Мамаев... ничего! Он был страшно огорчен и начал формулировать теорию, что это чистая случайность, потому что начинающим всегда везет. Но, несмотря на все теории, лидером в рыбной ловле был у нас Г.В. Шишкин.
Я постарался описать Владимира Петровича таким, каким он был в походах. У читающего эти строки может сложиться впечатление, что с таким человеком ходить было скучно, а общаться неинтересно. Что же было в Мамаеве такое, что влекло меня ходить с ним в походы более 20 лет? Есть изречение: «Дружба - это умение молчать вдвоем». Я не могу сказать, что был другом Мамаева, но с ним было хорошо и легко молчать. Он не балагурил и не ёрничал, не лез в душу, не стремился быть центром компании. Но мне с ним было всегда легко и просто общаться, не подыскивая слов и тем для разговора. Надежный, скромный товарищ в походе, у которого было чему поучиться, и с которым было всегда легко (не касаясь политики). И думая о Владимире Петровиче, мне в первую очередь вспоминаются не Ученые советы и институтские собрания, а Чуйский тракт и Телецкое озеро, Зеньковский порог и остров Средний, овринги на Туполанге, Шеркентский барьер и тувинская тайга.
А.Г. Хмельницкий
Отклики зарубежных химиков на кончину В.П. Мамаева
Проф. Д. Браун (Австралийский национальный университет,
Канберра, Австралия):
Я считаю, что кончина моего дорогого друга, Владимира Мамаева будет огромной потерей для Института, как и для мировой науки.
Я был хорошо знаком со всеми опубликованными работами Мамаева, особенно в области химии пиримидина и вообще гетероциклов. Эти работы высоко ценились во всех странах, где существует такая химия. СССР потерял выдающегося сына.
Хотя я не встречал Мамаева последние несколько лет, мы всегда обменивались интересующими нас репринтами И новогодними открытками. Раньше мы несколько раз встречались с ним и его коллегами на международных конгрессах. Я очень опечален его кончиной.
Проф. Х. Ван дер Плас (Уиверситет, Венинген, Нидерланды) :
Получив телеграмму о внезапной смерти моего друга Владимира Мамаева, я был глубоко поражен и хочу выразить мою симпатию всем его коллегам в Институте. Я считаю это громадной потерей для всех нас.
Тем, кто далече
Как далеки родные стены....
И круг друзей уже иной...
Ах, нашей жизни перемены....
Как трудно их принять порой.
И только вера сердце греет –
Дай бог ее не потерять,
Что нас и любят, и жалеют,
И не спешат позабывать.
В.П. Боровик
Краткая биографическая справка
-
Владимир Петрович Мамаев 1925-1987 r.
30.11.1925 r. - родился в Хабаровске.
1941 г. - окончил 8 классов средней школы в Москве сдал экзамены за 9 класс
1942 г - 1942 г. -сдал экзамены за среднюю школу после учебы на подготовительных курсах при МХТИ им. Д.И. Менделеева и зачислен в тот же институт 1942-1947 гг. студент МХТИ
1947 г. - окончание института с отличием по специальности «технология полупродуктов и красителей»
1947 г. - зачислен на должность инженера в НИОПИК 1947-1950 г. аспирант на кафедре химии и технологии органических продуктов и красителей МХТИ
1951 г. - защита кандидатской диссертации на тему «Исследование в области ацил-п-хинонов»
1950-1957 г. ассистент кафедры органической химии МХТИ 1957 г. - доцент МХТИ
1959 г. - перевод в Новосибирский институт органической химии (НИОХ) Сибирского отделения АН СССР 1959-1987 г. - заведующий лабораторией НИОХ 1965-1975 г. заместитель директора НИОХ по науке 1967 г. защита докторской диссертации на тему «Исследование 2-замещенных пиримидинов»
1969 г. - присвоение звания профессора
1972 г. - избрание членом-корреспондентом АН СССР
1975-1987 r. - директор НИОХ
1976-1987 г. - член Президиума Сибирского отделения АН СССР
01.02.1987 г. - скончался в Москве, похоронен в Новосибирске
Жена - Елена Каллиниковна Мамаева (5.03.1925 r. 24.04.1995 r.).
Дети: дочь - Нина Владимировна Мамаева (ныне Семиколенова род. 18.12.1951 г.)
сын - Сергей Владимирович Мамаев (род. 14.08.1955 г.).
С.Г.Барам - к.х.н., заведует Кафедрой химии в СУНЦ Новосибирского гос. университета. С 1970
по 1991 г. сотрудник Лаборатории гетероциклических соединений НИОХ.
В.П. Боровик - к.х.н., старший научный сотрудник Лаборатории гетероциклических соединений
НИОХ.
Р.А. Буянов - чл.-корр. РАН, советник РАН, Институт катализа СО РАН
Д. Браун - проф. Австралийского национального университета в Канберре (Австралия).
Ван дер Плас - проф. Университета в Венингене (Нидерланды).
Н.Н. Ворожцов (1907-1979 гг.) - академик, организатор и директор НИОХ с 1958 по 1975 г.
В.М. Власов - д.х.н., заведующий Лабораторией промежуточных продуктов НИОХ, с 1979 по 1997
г. - заместитель директора НИОХ по науке.
Т.Н. Герасимова (1934-2003 гг.) - д.х.н., Заслуженный деятель науки и техники, заведовала Лабораторией органических светочувствительных материалов НИОХ.
М.А. Грачев - академик, директор Лимнологического института СО РАН, сотрудник НИОХ с 1967 по 1984 г.
А.М. Ким - к.х.н., проф. Новосибирского гос. педагогического университета. Аспирант НИОХ с 1963 по 1966 г
Д.Г. Кнорре-академик, советник РАН, директор Новосибирского института биоорганической химии СО РАН с 1984
Л.К. Козачок - заместитель ученого секретаря НИОХ, с 1960 по 2001 г. - ученый секретарь института
А.С. Лапик- к.б.н., руководитель Группы токсикологии НИОХ с 1962 по 1984 г.
Т.В. Лешина - д.х.н., проф., заведующая Лабораторией магнитных явлений в Институте химической кинетики и горения СО РАН.
В.А. Ливанов - (1919-2001 гг.) - заместитель директора НИОХ по научной работе в 1960-1984 гг.
И.П. Мамаева - сестра В.П. Мамаева, проживает в Москве.
М.А. Михалева - (1937-2005 гг.)- к.х.н., одна из первых сотрудников Лаборатории гетероциклических соединений НИОХ, с 1982 по 2002 г. - старший научный сотрудник.
Т.Д. Петрова - д.х.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории галоидных соединений НИОХ
В.Ф. Седова - к.х.н., старший научный сотрудник Лаборатории гетероциклических соединений НИОХ
В.А. Семиколенов - (1953-2004 гг.)- д.х.н., руководил исследовательской группой в Институте катализа СО РАН
Г.А. Толстиков - академик, советник РАН, директор НИОХ с 1997 по 2002 г.
А.Г. Хмельницкий - к.х.н., с 1967 по 1986 г. заведовал Технологической лабораторией НИОХ.
Г.В. Шишкин - (1937-2003 гг.) - д.х.н., с 1973 по 1979 г. заместитель директора НИОХ по научной работе, с 1984 по 2002 г. заведовал лабораторией в Новосибирском институте биоорганической химии СО РАН.
О.П. Шкурко – д.х.н., главный научный сотрудник НИОХ, с 1987 по 2001 г. заведовал Лабораторией гетероциклических соединений НИОХ
В.Г. Шубин- д.х.н., проф., заведующий Лабораторией изучения механизмов органических реакций НИОХ
НИОХ
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н.Н. ВОРОЖЦОВА
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ MAMAEB в воспоминаниях 2005 г.
